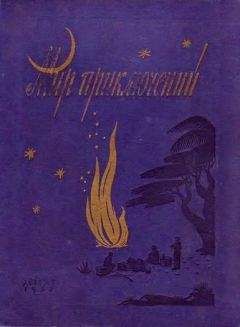Дмитрий Валерьянович ещё раз покачал головой.
— Боюсь, господин полковник, что фантазёр тут не я, а вы, — сказал он и направился к выходу.
Тут на дворе послышался шум. Сначала будто бы топот копыт и лязг повозки. Затем шаги на лестнице и возбуждённые голоса. Захар просунул голову в дверь.
— Ваше скородие, — произнёс он хрипло, — беда! Управляющий прискакал!
— Что там такое? Пусть войдёт.
В дверь не вошёл, а ворвался дюжий мужчина в синей поддёвке. Борода его была всклокочена, глаза навыкате.
— Ваше скородие! Погорела усадьба! Еле середину отстояли! Левое крыло рухнуло, да и на правом крыша еле держится! Целую ночь воду таскали! Вёдер не хватило!
Полковник встал.
— Кто поджёг? — рявкнул он.
— Не могу знать, — выдохнул управляющий, — воинскую команду надобно… Я еле ноги унёс. Мужики злые, как волки!
Полковник шагнул к нему, ухватил было его за ворот, потряс… но отпустил и забегал по кабинету, сверкая глазами.
В этот момент часы оглушительно ударили четверть часа. Полковник свирепо распахнул дверцу и, схватив маятник в кулак, остановил его.
Дмитрий Валерьянович усмехнулся и вышел из кабинета.
* * *
Топотун барабанил в окно детской так, что чуть не разбил стекло. Мишель открыл форточку.
— Вашбродь, новостей ужасти сколько! Вы в корпус не поедете!
— Да что случилось? Отец подобрел?
— Какое там подобрел! Управляющий прискакал! В Карабанове усадьба погорела! Их скородие к губернатору — воинскую команду требуют для наведения порядку! А самое главное… Ой, не знаю, как сказать… это ужасти, да и только!
— Да что ты? Помер кто-нибудь?
— Нет, не помер… Наоборот!
— Как это наоборот?
— Дмитрий Валерьянович знаете кто? Это дедушка ваш!! Барынин отец! Вот убей меня гром! Чтоб мне всю жизнь снились мертвецы и гадюки!
— Ты с ума сошёл! — воскликнул Мишель. — Кто тебе сказал?
— Трофим! «Для того, говорит, от барчука скрывали, что это дед его, чтоб мальчика на свой лад изломать. Барыню сломали, а за ней и на сына набросились! Да толку-то что? Их скородие оченно упрямый человек»… — Топотун подхватил с земли какой-то сучок и встал в позу. — А нынче старик-то палкой ка-ак стукнет! «Не позволю, кричит, портить будущее моему внуку! Не стану угодничать перед этой бронзовой фигурой с бакенбардами!» Это он про их скородие так, про батюшку вашего… Ну, тут было, тут было!..
Топотун так художественно изобразил Дмитрия Валерьяновича, что Мишель побледнел.
— Ох, вашбродь, я столько слов наслышался, что некоторые слова даже выговорить тяжело!.. «Фигура»… «бакенбарды»… Их скородия дома нет, Захар спрятался! Ну и буря! Я такой бури в жизни не видал! Ох, ворота отворяют, их скородие едут… Прощайте!
Мишель сел на кушетку и закрыл руками лицо.
Что за тайна висела над этим домом?
Зачем нужно было скрывать от Мишеля, что Дмитрий Валерьянович — его дедушка? Мишель чувствовал, что во всём этом виноват отец. Он хотел, чтобы Мишель рос как в коробочке, как птица в клетке, пока его не отдадут в руки военных воспитателей. И дальше он будет жить в стенах какого-нибудь военного училища, не видя ничего, что делается на воле…
Для Мишеля отец был всего лишь раздражительным начальником. Спорить с ним не полагалось. Плакать в его присутствии не разрешалось, за это ставили в угол. Весь холод, царивший в доме Карабановых, исходил от отца. Одного его взгляда было достаточно, чтобы Мишель замолчал и съёжился, как будто его обдало порывом морозного ветра.
Дмитрий Валерьянович совсем другой, добрый и тёплый. И видно, что он многое в жизни испытал — такое, что Мишелю и не снилось и о чём в книгах не писали.
На портрете Дмитрий Валерьянович похож на маменьку — смуглое молодое лицо, тонкий нос с горбинкой, пышные волосы. Всё это исчезло. Много лет прошло. Только продолговатые чёрные глаза остались!
В двери заскрежетал ключ. Старик вошёл в комнату широкими шагами, за ним — мать.
— Здравствуй, Михаил, — улыбаясь, сказал Дмитрий Валерьянович, — теперь мы с тобой оба на воле.
Мишель бросился к нему, прижался лицом к его старому, потёртому сюртуку и выцветшему галстуку и отчётливо выговорил слово, которого до сих пор не было в его жизни:
— Дедушка!
* * *
Мишелю разрешили гулять по бульвару! Правда, не одному, а с Дмитрием Валерьяновичем, но всё-таки разрешили.
Мишель подозревал, что Елена Дмитриевна, без ведома папеньки, выпустила его за ворота карабановского особняка. Вообще в этом доме стало как-то светлее. Полковник редко бывал дома, а когда бывал, то молчал. На всех встречных он поглядывал угрюмо и презрительно, не отвечал на вопросы, не делал выговоров, а к себе в кабинет допускал только Захара-дворецкого.
На Мишеля надели прогулочное пальто, длинное, с пелериной, картузик, перчатки. Велели не открывать рот против ветра и в случае дождя немедленно возвращаться домой.
Ветра вовсе никакого не было. Был облачный августовский день. Кое-где на деревьях уже проглядывала ранняя желтизна.
На самом бульваре людей было немного — няни с детьми да две семейные пары. Зато за решётками гудел город: потоком ехали извозчичьи дрожки, барские коляски, тяжёлые телеги, гружённые товаром, шли пешеходы в пальто, плащах и шинелях, медленно двигались разносчики с кладью на спине.
Возле Арбатской площади толпился народ — всё больше мастеровые в обмятых войлочных шапках. Вели они себя странно: сойдутся, постоят, пошепчутся — и вдруг рассыплются в разные стороны, как воробьи, когда на них едет телега. И опять соберутся в другой стороне.
Мишель смотрел на всё это с восторгом, как путник, добравшийся до города из глухой деревни.
— Дедушка, о чём они там говорят?
— Не слышу, дорогой, о чём народ толкует. Надо полагать, о воле.
— А зачем они разбегаются? Ах, извините…
Поднялся небольшой ветерок. Мишель вспомнил о строгих правилах прогулки и сразу же закрыл рот. Но ветерок скоро кончился, и Мишель не удержался:
— Дедушка! Вы говорили, что вас когда-то насильно отвезли в Сибирь?
— Да, мой мальчик, — отвечал Дмитрий Валерьянович.
— А за что?
Старик ответил не сразу.
— Я был сослан, — сказал он наконец.
— Да за что же? Вы сделали что-нибудь плохое?
— Нет, Михаил, плохого я ничего не делал.
— Почему же вас выслали?
— Друг мой, — мягко отозвался старик, — слышал ты когда-нибудь о декабрьском восстании 1825 года?
Конечно, Мишель ничего об этом восстании не знал, да и во всей России немногие дети тогда о нём слышали, потому что говорить о нём было строго запрещено.
Дмитрий Валерьянович стал рассказывать. Говорил он тихо и неторопливо, но так интересно, что Мишель уже не мог оторваться от рассказчика и вцепился ему в руку обеими своими руками.
— Было это в Петербурге, тридцать шесть лет тому назад. Я тогда служил в гвардейской артиллерии, и, хотя мой полк в восстании не участвовал, я не мог бросить товарищей по тайному обществу и явился на Сенатскую площадь. Трофим был со мной, и это было наше последнее сражение. Мы хотели сделать Россию свободной, свергнуть царей, дать волю крестьянам… Мы стояли стеной со штыками и знамёнами, на морозе, возле памятника Петру Первому и отбили несколько атак кавалерии. К вечеру император, увидев, что мы не сдаёмся, двинул против нас артиллерию.
Дмитрий Валерьянович вздрогнул и выпрямился, словно на него снова были нацелены жерла пушек.
— Всё слилось в одном ударе, друг мой, — и визг картечи, и гром пушек, и морозный ветер, и падающие знамёна, и стоны раненых. Люди рядами повалились на снег под этим ударом… Император Николай начал царствовать.
Дмитрий Валерьянович глубоко вздохнул, и лицо его снова стало старым и серым.
— С тех пор я не видал Трофима много лет. Меня под стражей отвезли в кибитке за Байкал. Там я и жил в ссылке и оттуда приехал, сначала в деревню, а теперь и в Москву. Товарищей моих уже нет на свете. Трофим остался жив. Вот мы с ним и вспоминаем, как мы воевали… да смотрим на новых людей.
Старик кивнул головой в сторону площади.
— Дмитрий Валерьянович, это были герои? — прошептал Мишель.
— Да, дружок, среди них было много героев, но всех их приказано было называть преступниками, и тех, кто уцелел, и тех, кто был убит.
— Но теперь те, которые живы, получили свободу?
Дмитрий Валерьянович долго молчал. По проезду, мимо бульвара, рысью проехали вооружённые кавалеристы. Цокот копыт по булыжникам ещё долго был слышен вдали.
— Ах, господи, что же это? — послышался женский голос.
— Кажется, драгуны, — отвечал мужчина. — Да вы не беспокойтесь, в городе нет беспорядков, но скопления народа на улицах запрещены…
Дмитрий Валерьянович всё смотрел, смотрел и, наконец, очнулся.