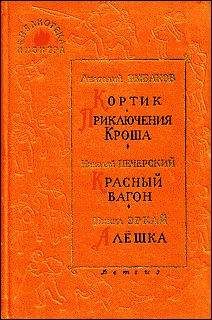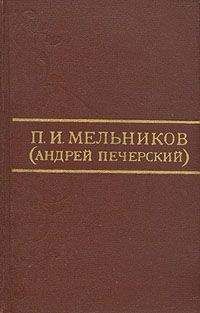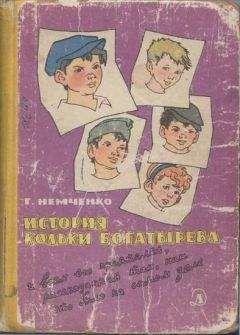— Болит? — спросил Глеб.
Димка застонал в ответ и еще сильнее выпятил свой коричневый живот.
— Пощупай... Кажется, увеличилась, — сказал он, помедлив.
Глеб вежливо отказался.
— Ты мне дай немножко йоду, — попросил он. — Я себе ноги на камнях разбил.
Димка не поинтересовался, где и каким образом Глеб приобрел такие ссадины. Он ревниво смотрел, как Глеб мазал пятки йодом и, наконец, не выдержал:
— Ты, Глеб, не особенно, на мышцу мне оставь.
Глеб ткнул на место пузырек и пошел на свою половину.
«Без йода проживу, — решил он. — Пускай сам мажет...»
Ранки на ногах пощипали немного и утихли. Глеб уснул.
Это была первая ночь, когда ему ничего не снилось. Лег на кровать, положил под голову кулак, и всё — будто в колодец провалился.
Проснулся Глеб на рассвете. В вагоне стояла зыбкая синева. За окном качалась черная колючая лапа сосны; вдалеке мерцала серебряными блестками река.
Все было как в сказке: и эта беспрепятственно затекавшая в окно синева, и рогатый месяц над рекой, и лежавший напротив Глеба Лука...
Федосей Матвеевич обещал разбудить Глеба, когда все вернутся, но так и не разбудил. Наверное, Лука пришел очень поздно. Лицо у Луки было спокойное. В уголках рта, там, где кудрявились ни разу не бритые усы, лежала хорошая тихая улыбка.
Глеб понял, что все было в порядке. Они нашли Зину-Зинулю и привели ее сюда. Иначе Лука не улыбался бы. Никогда. Даже во сне.
Глеб втихомолку рассматривал лицо брата.
Крупный, немного седловатый нос, черные и какие-то очень широкие брови.
В Иркутске Лука ходил с Глебом в парикмахерскую.
Лука сидел в кресле перед большим облупившимся зеркалом, а Глеб наблюдал за ним из прихожей.
Высокий и тонкий, как палка, парикмахер постриг Луку машинкой, заглянул, как доктор, в уши и ноздри, щелкнул маленькими ножницами.
— Бровки подстричь? Вы не беспокойтесь, сделаем аля-фуше, первый сорт.
Лука сдернул с шеи занавеску с ржавым пятном посередине и поднялся.
— Не надо фуше. И так сойдет.
Протянул в кассу рубль, получил десять копеек сдачи и пошел к выходу, поглаживая круглую черную голову.
Лука не носил прически. Он всегда был таким, как сейчас, — стриженным под «нуль», с широкими бровями, без всяких глупых и непонятных «аля-фуше».
Он был очень красивый, Лука...
Лука, должно быть, почувствовал взгляд Глеба. Веки у него дрогнули, сквозь узенькую щелочку блеснул черный зрачок.
Глеб хотел притвориться спящим, но было уже поздно.
— Ты чего смотришь? — шепотом спросил Лука.
— А ты чего? — тоже прошептал Глеб, еще не зная, как вести себя: улыбнуться или, может быть, пока подождать.
Лука не ответил. Встал с кровати и не торопясь начал одеваться.
Он ходил по вагону из угла в угол и напевал песенку. Слов у этой песенки не было, а были только какие-то «три-та-та, тру-та-та».
Лука всегда напевал одно и то же. Но песенка всякий раз окрашивалась новым оттенком. Если настроение у Луки было хорошее, «тру-та-та» звучали весело и нежно, как лесной ручеек. Если Лука злился, эти же самые звуки становились отрывистыми и глухими, как удар солдатского барабана.
Сегодня в песне Луки собрались все ручьи и все лесные птицы. Сомнений не было — Зина-Зинуля была здесь. Это для нее Лука надевал чистую и почти что новую гимнастерку и наяривал щеткой порыжевшие, сбитые на носках сапоги.
Глеб уже видел кинокартины, на которые дети до шестнадцати лет не допускаются, и поэтому знал, что влюбляться можно только в красавиц. Странно, что Лука был неравнодушен к Зине-Зинуле. Тоненькая, остроносая, и на лице веснушек— хоть веником выметай. Нет, Зинуля положительно не была красавицей...
Глеб не стал расспрашивать Луку про таежный поход.
Спросишь что-нибудь — и невпопад, и снова ссоры, и снова колючие вопросы: «А что?», «А зачем?», «А почему?» Нет, лучше он как-нибудь так узнает...
Глеб увидел Зину-Зинулю возле «конторы», где Федосей Матвеевич, ожидая, когда сменит его Варина мать, по-прежнему варил свои супы и каши.
Он думал, что встретит истощенного, искусанного мошкой человека, и поэтому очень удивился бодрому и веселому виду Зинули. Казалось, не из тайги привели ее, а откуда-то с концерта или цирка, где разноцветные клоуны смешно дают друг другу подножки и обливаются сметаной.
Возле «конторы» только и слышалось ее «хи-хи» да «ха-ха».
Оказывается, Зина-Зинуля убегала не один раз, а два раза — первично и вторично.
Так и в телеграмме было написано: «Вторично ушла к вам Зиночка Алушкина». Только они тогда внимания на это не обратили.
Зина-Зинуля убежала первично, но отец догнал ее и привел домой, а вторично он ее уже не догнал. Зинуля перехитрила Алушкина и пошла вторично не по дороге, а напрямик, через болота и тайгу.
Но все равно это хорошо, что Лука и Георгий Лукич отправились на розыски. Вторично Зинуля заблудилась и пошла не к вагонам, а совсем туда, куда не надо, — к Трем Монахам.
Глебу очень хотелось узнать, как там сейчас у них в лесном поселке, — пересохла Зеленуха или все еще стоит в бархатных, заросших тальником берегах; починили ли крышу на избе и что делает глупый Колька Пухов.
Но Зинуля так ничего толком и не сообщила.
— Кольку? Конечно, видела, — сказала она. — Он сейчас знаешь какой стал...
Но какой стал Колька, Зинуля не сказала. Скорее всего, она вообще не видела Пухова и говорила просто так...
Десятиклассники позавтракали, забрали пилы и топоры и отправились на просеку.
«Хи-хи! Ха-ха!» — летел издали задорный, беспрестанный смех Зинули.
Теперь, когда появилась Зинуля, дела у лесорубов наверняка пойдут лучше. Уже два дня подряд они выполняли норму на девяносто пять процентов. Если бы Димка Кучеров не ленился, у них давно было бы все в порядке. Но Димка работал через пень колоду. То мошка искусает Лорда и он бежит спасаться в реку, то мышцу себе какую-то придумал...
После завтрака Димка остался возле «конторы». Он что-то горячо и убежденно доказывал Георгию Лукичу, задирал рубашку и показывал свой круглый, коричневый живот.
Георгий Лукич выслушал Димкину болтовню, а потом махнул рукой, как будто бы хотел сказать: «А, шут с тобой!» — и повел Лорда на конюшню к Федосею Матвеевичу.
Через некоторое время Глеб заглянул туда и узнал, в чем было дело.
Георгий Лукич внял просьбам Димки о легкой работе и назначил его на конюшню ездовым.
Бывший ездовой, он же плотник, он же печник и повар, Федосей Матвеевич терпеливо и взыскательно обучал Димку новому ремеслу. Он разъяснял Лорду, что такое гужи и постромки, показывал, как надевать и засупонивать хомут, и тут же требовал все повторить и показать на практике.
Из всей этой сложной и тонкой конской науки Димка как следует усвоил только одно незыблемое правило: если потянуть за левую вожжу, лошадь повернет влево, а если потянуть за правую, она должна повернуть вправо.
Первый рейс, как это ни странно, Димка совершил успешно.
Он съездил к переправе и привез оттуда полную телегу продуктов, ящик с гвоздями и еще много всякого добра.
Федосей Матвеевич принял груз, обошел вокруг лошадей, по-хозяйски сунул ладонь под хомут. Все было в порядке — лошадей Димка попусту не гнал. Ладонь была сухая, теплая и только чуть-чуть пахла потом.
Получив новые распоряжения, Димка уверенно, как к себе в избу, полез на телегу.
Дорога лежала вдоль берега реки. Лошади шли неторопливым, размеренным шагом и не требовали никакого руководства. Щелкнет Димка кнутом, лошади потрусят для приличия мелкой, незавидной рысцой и снова переходят на шаг.
Припекало солнце. В траве монотонно, будто бы кто-то водил ножом по бруску, чивикали кузнечики — чиви-чиви...
Димке зверски хотелось спать. Он было уже задремал на своем высоком насесте, но телега наехала на камень и Димка едва не угодил под колесо.
И тут Димка решил, что сидеть на козлах необязательно и можно, пожалуй, лечь в деревянный короб и немножко поспать. Дорога прямая, лошади смирные и задней скорости у них, как известно, нет.
Так Димка и поступил. Лег в короб, подложил под голову свой клетчатый, потерявший прежний вид пиджак и уснул.
Лошади долго и безропотно везли спящего Димку.
Но вот они остановились, прислушались. Должно быть, им показалось странным, что сзади на них не покрикивали и не пощелкивали, как это было раньше, кнутом.
Постояли немного, подумали, а потом свернули с дороги и начали ощипывать листья с куста черемухи и есть их вместе с маленькими, черными, как угольки, ягодами.
Оттого, что листья были горькие, а может быть, оттого, что было жарко, лошади захотели пить.
Но, видно, мало им было той воды, что у берега. Они пили, отфыркивались и продолжали заходить все глубже и глубже. Вначале вода только-только закрывала толстые узловатые колени, потом стала подкатываться под брюхо, заламывать в сторону хвосты.
Лошади поняли, что ушли слишком далеко, и круто повернули к берегу. Заскрежетали по каменистому дну колеса, телега накренилась и шлепнулась вместе с Димкой в воду.