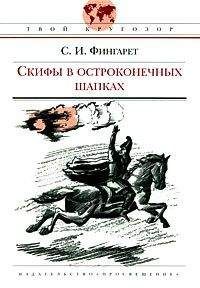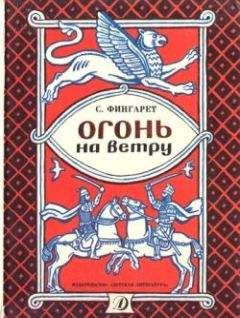Красиво написаны ангелы. Льются локоны по плечам, льются складки просторных одежд. Льются трубные звуки, открывают шествие.
Как горделива поступь идущих, как сердечны их лица!
Павел осеняет идущих рукой, в которой он держит свиток. Пётр обернулся и смотрит ясным и чистым взором. Люди за ними идут доверчиво, словно знают, что выстрадали право на счастье. Идут праведники и подвижники. С горделивым достоинством движутся праведные жёны, сумевшие «слабость женскую в мужество обратить».
Шествие поднимается выше и выше, переходит со стен и столбов к залитым светом куполам.
Где кары, уготованные людям, где орудия предстоящих мук?
Так горделиво и так стремительно можно идти лишь туда, где торжествуют счастье и справедливость.
Не «Страшный суд» создали живописцы. Они показали суд праведный. Не возмездие изобразили их кисти, но справедливость!
Княгиня прижала к груди пальцы в жемчужных перстнях.
Как нарядно украшен храм! Льющийся со стен голубец и светлая охра разве не рождают воспоминание о ясном небе и золотистой ржи? Лиловато-розовые стебли с усиками, зелёными листьями и вишнёвыми цветами, оплетающие арки и хоры, разве не так же прекрасны, как цветы, растущие на полях?
Княгиня обернула к князю глаза, полные слёз.
– Скажи, Юрий Всеволодович, где живописцы нашли то счастье, которое изобразили? На земле стоит плач и братоненавидение, а у них радость и ликование.
– Живописцы не нашли справедливость, они призывают к ней, – хмуро сказал князь.
Княгиня потупилась, чтобы скрыть слёзы, повернулась к княжне. Сестра Холмского неотрывно смотрела на купол. Там среди четырёх кружащих зверей шёл бурый медведь. Он шёл, уставившись в землю. Он словно вынюхивал затерянный след, словно искал кого-то.
– На что ты так пристально смотришь, дитятко? – спросила княгиня, обнимая княжну за худенькие плечи.
Княжна не ответила, из объятий высвободилась. Покидая собор, княгиня увидела, что девочка подошла к ключарю.
– Скажи, как зовут живописцев, украсивших купол? – спросила княжна у Патрикея.
– Даниил Чёрный и Андрей Рублёв. Запомни, княжна. Вся Русь скоро начнёт говорить о них, и за пределы страны слава об их мастерстве выйдет.
– Мне надо свидеться с живописцами.
– Уехали они в Москву. По весне вернутся писать иконостас, весной и свидишься.
– До весны ждать долго.
Сохранилась легенда, что повторение иконы «Богоматерь Владимирская» было сделано за одну ночь.
Измучилась я с сестрицей, – пожаловалась княгиня, вернувшись после собора в отведённые им покои.
– Что так? – спросил князь. Он был невнимателен, думал о чём-то своём.
– Другие родимую дочь так не балуют, как я сестрицу. И опашени, и ленты, и косники в косы вплетать – всё для неё. Пастила малиновая да вишнёвая в горенке её не переводится, заедками и усладками дружка своего лохматого кормит, а всё недовольна. Молчит, неулыбчивая. Мы с мамками вкруг неё скоморохами вертимся, а угодить твоей королевне не можем.
– Натерпелась, вот и неулыбчивой стала. В терему у Тверского заложницей насиделась, чуть не всю Русь одинёшенька прошла.
– Разве я не понимаю, разве не жалею её? Только и мне тяжело постоянно одно недовольство видеть.
Князь промолчал. Он знал, что весь разговор затеян ради того, чтоб удержать его во Владимире.
– Тоскует сестрица, – продолжала княгиня, исподволь подбираясь к главному. Слёз не показывает, сердце имеет твоё – гордое, а что тоскует без тебя, то каждому видно. Останься, князь.
Князь подошёл к окну, распахнул зелёные ставни. В горницу ворвался холодный свежий воздух.
– Покличь княжну, дорогая супруга. Время прощаться. Княгиня заплакала:
– Меня не жалеешь, сестрицу родимую пожалей. И месяца не прожил с нами.
– Кого ж я жалею, если не вас? Не для себя стараюсь. – Князь отошёл от окна и зашагал по горнице. – Палат своих не имеем, из милости у людей живём.
Около года тому назад двоюродный брат Холмского князь Василий Кашинский заключил с Тверью мир и возвратился в Кашин. Василий Дмитриевич нимало не медля передал освободившийся Переяславль литовскому князю Александру Нелюбу, бежавшему из Литвы. Союз с Нелюбом для Москвы был выгоден. А что семья Холмского осталась без крова, хоть среди поля шатёр разбивай, такое Василия Дмитриевича не беспокоило. Спасибо, владимирский боярин Киприян Борисович Сухощёков предложил свои хоромы.
Гордого Юрия Холмского житьё у боярина мучило, как неотвязная огневица.
– Поклонись Москве, в последний раз поклонись, – прошептала княгиня и опустила голову, зная, что сейчас последует гневная вспышка.
– Тому не бывать!
– Обещался Василий Дмитриевич, слово давал.
– Верно, что слово давал. Три года я жил, надеясь на княжье слово, ныне изверился.
– Нелюбье у тебя к нему великое.
– Оттого и нелюбье, что московский князь слово не держит. Тебе об этом не один я – боярин Сухощёков толковал много раз.
– Однако за делом Киприян Борисович отправился не куда-нибудь – в Москву.
– У него дело такое, что, окромя Москвы, больше податься некуда. Только зря коней истомит. Москва и тут правой окажется.
Речь зашла о давнем споре между Москвой и Владимиром. Участие в нём принимала чуть не вся Русь.
– Как можно такое творить! – возмущались те, кто считал правым Владимир. – Сам Андрей Боголюбский перенёс икону из Киева во Владимир.
– Тогда перенёс, – возражали сторонники Москвы, – когда Владимир сделался стольным городом, над Киевом взял верх.
Теперь Москва в величии обогнала все города, ей и «Владимирскую» держать.
Икона, о которой шёл спор – «Богоматерь Владимирская», считалась всерусской святыней, главной защитницей. Где она – там и сердце Руси. Потому-то Москва, заполучив икону, не соглашалась с ней расстаться. Василий Дмитриевич отвёл ей почётное место в новой Благовещенской церкви.
Владимир примириться с утратой не хотел ни за что. Один выборный за другим наезжали в Москву с требованием вернуть икону. Очередным посланником явился Киприян Борисович Сухощёков, тот самый, что гостеприимно предоставил свои хоромы бездомной семье Холмского.
Когда Василию Дмитриевичу доложили о приезде владимирского боярина, князь, обычно сдержанный и осторожный, впал в ярость:
– Гоните с крыльца посохом! В шею!
– Опомнись, великий князь, – не испугавшись, сказал Киприян Борисович. Он вступил в палату сразу за думным дьяком, доложившем о его прибытии. – Нет на Руси такого обычая – выборных гнать взашей.
– Ты первым будешь, раз не по делу явился. Сказано: «Владимирской» быть на Москве. Другого слова не будет.
– Так ли говорил ты, когда Тохтамыш взял Елецк? Не кланялся ли ты Владимиру в пояс: дайте да дайте святыню, от Орды защититься.
Глаза Василия Дмитриевича потемнели.
– Смело говоришь, боярин, да негоже. Забыл, как тогда Москва на Оку вышла, своей грудью прикрыла все города? Не иконой прикрыла – ратью.
– За это были Москве возданы честь и слава. Ныне будет бесчестье, коль не вернёте «Владимирскую»!
– В кандалы! – крикнул Василий Дмитриевич.
– Опомнись, государь, – тихо сказал Иван Кошка.
– В кандалы, – повторил Василий Дмитриевич твёрдо и зло. Бояре поспешно вывели злополучного Сухощёкова, боясь, как бы не вышло хуже. Между собой они говорили: «Владимир не потерпит такого надругательства над выборным, пойдёт против Москвы». Казначей, всегда державший сторону князя во всех несогласьях с боярами, на этот раз осуждал его вместе с другими. Горячность князя отбросит Владимир в стан московских врагов. А их и без того много.
Где найти выход? Что предпринять? Рассчитывать, что Василий Дмитриевич отменит своё решение бросить посла в темницу, не приходилось, князь был упрям. Надеяться, что гордый город стерпит бесчестье, трудно. Не таков Владимир. И «Владимирскую» нельзя возвращать. Ни в чём Москва не должна поступиться первенством. Добывали его дорогой ценой.
Иван Фёдорович думал и думал. Наконец напал на какую-то мысль и заспешил в Андроньев монастырь.
– Здесь ли Рублёв? – торопливо спросил он у монаха-привратника, впустившего его в ограду. – Не уехал ли куда?
– Здесь, боярин. Трудится в мастерской.
– Сделай милость, покличь. Скажи, что великокняжье дело, тайное.
Монах чуть не бегом бросился в мастерскую и так же быстро вернулся. Вид у него был смущённый.
– Брат Андрей просит обождать, пока он закончит вохрение. «Иначе, – говорит, – краска провянет, отчего тени на лице утратят прозрачность». Обождёшь ли, боярин?
– Обожду, коль для живописца его художество важней Князевых дел.
Не пожелав пройти в помещение, Иван Кошка уселся на чурбак, стоявший вблизи ворот, и задумался. Как подошёл к нему Андрей, он не заметил. Поступь у живописца была бесшумной, словно у рыси.
– Звал, боярин?