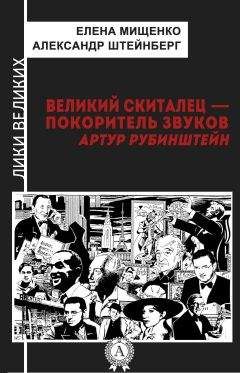Народ просит Годунова на царство. Во тьме перекликаются голоса: «Митюх, а Митюх, чего орём?» — «Вона, почём я знаю! Царя на Руси хотим поставить!..»
Всё не так, как в обычных операх. Не герои, а люди, не царь, а человек. Занавес заслоняет тьму и красные лампадки и через минуту снова взлетает вверх. Разом открываются жарко сияющие маковки Кремля, белые «рынды» с топориками и толпа под стройным фасадом Успенского собора. Гром колоколов — коронация неправедного царя Бориса!
…А между тем отшельник в тёмной келье…
Сцены в келье в спектакле Мариинского театра не было. Её выбросили из постановки, как «слишком длинную» и подозрительную. В сумерках Чудова монастыря монах Пимен пишет летопись, а в летописи — правда. Правда, как бы ни была она солона.
В оркестре мерно катятся волны времени. Пимену не много осталось жить. Все ужасные деяния последних лет для него только проходящая туча. Но солгать он не может. «Прогневали мы бога, согрешили, владыкою себе цареубийцу мы нарекли…»
Буран вдруг рванул стёкла, да так, что учитель вздрогнул и перестал играть.
— Того и гляди, вышибет, — произнёс он, глядя исподлобья на окно.
Он прислушался: где-то в степи, в пляшущем снегу, позванивал колокольчик.
Учитель вышел в сени, надел тулуп и попытался открыть дверь на крыльцо. Ветер навалился на дверь с другой стороны и с силой захлопывал её каждый раз, когда учителю удавалось приоткрыть дверь плечом.
Вдруг дверь поддалась, и поток снега ослепил учителя. В свисте и вое бурана он увидел, как что-то большое и шумное пролетело над воротами.
Ворота были засыпаны снегом на три сажени, и для того чтобы въехать во школьный двор, нужно было перемахнуть через сугроб над верхней перекладиной.
Это были сани, запряжённые двумя лошадьми. Они остановились посреди двора, и сейчас же чей-то громовой голос заорал, борясь с бураном:
— Почта, что ли?
— Земская школа, — отвечал учитель, пробираясь поближе к саням.
— Это Чекмагуш?
— Нет, Воецкое.
— Заночевать можно?
Учитель пожал широкими плечами.
— Буран, — сказал он.
Из саней вылезли двое: большой и маленький. Большой подошёл к учителю и вдруг гаркнул:
— Григорий!! Ты ли? Ах, чёрт возьми, какая встреча! — Большая фигура облапила учителя медвежьим объятием, едва не раздавив его. — Как ты сюда попал? Подумать только! Катя! Да ведь это Громов, Гриша Громов из Консерватории!
— Боже мой! — пролепетал учитель. — Стурницкий?! Здесь, в степи! Катя Нефёдова! Вот уж чудо!
— Да что ты делаешь в земской школе, друг любезный?
— Сослан, — сказал учитель, — раньше в Сибири был, весной перевели сюда. А вы куда? Да пройдёмте в школу, что же здесь, на морозе-то…
— Постой! Кто у тебя там, в школе?
— Никого. Занятий нет, буран. А вы тоже… под наблюдением?
— Нет, пока в порядке. Но едем в деревню, да в самую глухую.
— Зачем?
— К народу! И книжки везём. У вас тут полиция сильна?
— Нет, — сказал учитель, — становой пристав за пятнадцать вёрст, да он в буран и носу не высунет. В степи только волки…
Стурницкий неожиданно захохотал.
— Представь себе, вот только сейчас, за Подымаловым, в буране огоньки. Мне Катя говорит: «Смотри, это Чекмагуш». Я оглянулся, и тут наши лошади понесли. Тут только догадался я, что это за огоньки! Это не огоньки, а волчьи глаза! Три раза стрелял. Через реку по льду проскочили, моста не видно, да так, на всём скаку, и влетели к вам. Слыхал ты, чтобы в буран волки?
— Всякое может быть, — отвечал учитель, — пойдёмте же в дом.
Со Степаном Стурницким учитель познакомился в декабре 1876 года на Казанской площади в Петербурге.
В хмурый зимний день на ступенях Казанского собора волновалась большая толпа в студенческих фуражках, шапочках «пирожками», картузах, какие можно увидеть только на окраинах. Молодой человек с каштановой бородкой говорил со ступеней, потрясая кулаком. Громов подошёл позднее и начала речи не слышал. До него долетали по ветру только отдельные фразы: «Наше знамя, вот оно… крестьянину и работнику»… Затем раздалось «ура» и над толпой взмыл поднятый на руках подросток в полушубке. Он развернул ярко-красное полотнище с надписью: «Земля и воля»…
Раздался пронзительный свист. Из узкого пролёта Казанской улицы выбежал отряд городовых в башлыках и кепи, насаженных на уши. За ними стеной следовали рослые питерские дворники с рукавами, засученными до локтей.
— Бунтуют студенты, бей всех, кто в очках! — кричали они.
Но «тех, кто в очках», оказалось не легко избить. Началась свалка.
— Дерутся! — зазвучали испуганные женские голоса.
Громова схватила за рукав знакомая курсистка Катя Нефёдова. Её меховая шапочка съехала набок, волосы растрепались по щекам.
— Бога ради, Громов, помогите! — взмолилась она. — Как бы пробраться на Невский?
Громов потащил её, пробиваясь через густую толпу и уклоняясь от ударов. Свист не умолкал.
Дюжий дворник ударил его кулаком по голове и повалил на снег. Катя стонала, схваченная за обе руки городовыми.
Но тут помощь пришла как будто с неба. Дворник вдруг опрокинулся на спину. Громов поднялся и увидел студента-богатыря, который схватил двух городовых за башлыки и разбросал их в разные стороны.
Громов узнал его. Это был Степан Стурницкий из Медико-хирургической академии.
— Беги! — крикнул Стурницкий. — Я выведу барышню!
С тех пор Громов не встречал ни своего спасителя, ни Кати. Вечером к нему явились жандармы, и дальше он видел только тюрьмы, форменные шинели и шнуры, вицмундиры судейских, вагоны с решётками на окнах и телеги с конвойными солдатами, которые доставляли арестантов за Волгу.
— Ну и что плохого в буране? — шумел Степан, доставая сало из мешка. — Ночь, да степь, да булатный нож… Впрочем, у нас не нож, а вот это… — Он вытащил из-за пазухи револьвер. — Смит-вессон, и при нём запас патронов, братец!
— Где ты взял?
— Её дядя подарил нам перед отъездом. Отлично бьёт!
— Ты всё-таки полегче, — сказал учитель и подбросил охапку соломы в печь.
— Э, милый, волков бояться — в лес не ходить! Так мы с Катюшей от самого Петербурга и едем. Да ты не знаешь? Мы поженились!
— Поздравляю, — сдержанно отозвался учитель.
— Тебе спасибо, Григорий! Ведь мы с ней познакомились на площади благодаря тебе! Ты наш сват!
Учитель посмотрел на свежее, сияющее лицо Кати и впервые за много месяцев улыбнулся.
С появлением этой пары в комнату учителя словно ворвалась жизнь. Катя постелила на столе газету, достала из шкафчика тарелки, подбросила в печь солому и примостила туда медный чайник. Степан вытащил из мешка тщательно закупоренную бутылку.
— Нет, нет, я не пью, — сказал учитель.
— Эх ты, монах! — прогремел Степан. — За здоровье новобрачных неужели не выпьешь? За успех нашего дела!
Учитель взял в руки стопку, половину отлил и поднёс было к губам. Но тут в сенях завыло.
— Опять буран кого-то занёс, — смущённо проговорил учитель и вышел в сени.
В полутьме стояли не то один, не то два человека. Тёмная масса сливалась с тенью настолько, что трудно было разобрать, сколько в ней голов, рук и ног. И заговорила эта масса так равнодушно, гнусаво и неопределённо, что можно было предположить в этом голосе и целый хор.
— Можно посидеть? Ай?
— Можно, — ответил учитель. — А вы кто такие?
Тут он разобрал, что перед ним стоят двое. Но на них не было ни тулупов, ни полушубков. Они были завёрнуты в дерюги, из-под которых торчали холщовые штаны и бесформенные опорки.
— Мы, — сказал один из двух, — мы… из Златоуста в Самару идём.
— Пешком?
— Ай, да! Пешком…
— Денег на дорогу нет?
Молчание. Потом тот же голос произнёс:
— Мы после тюрьмы. У нас казённая бумага есть.
Второй голос, похожий на первый, добавил:
— Бумага. После тюрьмы.
Учитель жил на краю степи, как на берегу моря. Он не искал общества, но почтовый тракт выносил на его берег множество плавающих и путешествующих. Их выбрасывала степь из воющего бурана, и они теплели на часок-другой, видя, что их не гонят обратно в буран, и удивляясь тому, что земская школа стоит так близко к тракту.
Учитель Громов не был ни слишком добр, ни слишком гостеприимен. Это был коренастый, неуклюжий, угрюмый человек с крупными руками и ногами и косолапой походкой. Он тайно ненавидел водку, конину, воблу и гармонь. В деревне Воецкое его считали чудаком, но относились к нему доброжелательно, потому что он не отказывался от полевой работы и одалживал соседям то солому, то свечи, то муку. Кроме того, он бесплатно писал письма в город, да ещё на своей бумаге.
Заметив освещённое окно в снежной степи, проезжие стучали в дверь, как судно даёт сигнал, заметив свет маяка. И, входя в школу, они вспоминали забытые законы человеческой солидарности.