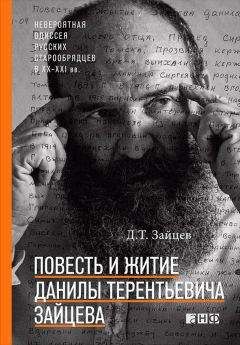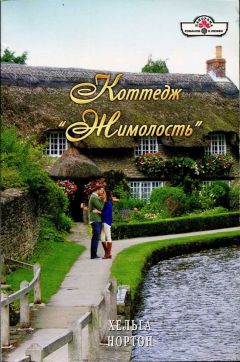Луша росточка была малого, а красоты сильной. Не одну ночь, не одну весну Терешина гармонь по лесниковой дочери убивалась. Даже старухи вчуже подолами слезы утирали, когда слышали, как по ночам за рекой венка тоскует - Лушу зовет.
Только не всех гармонь разжалобить может. Особенно нужду. А нужда в тот год была - дальше некуда. Хлеб вымок, и деревенских на заводы брали худо. То ли спросу на железо не было, то ли прогар какой случился. Хоть по миру иди...
Видит Петрован, что тряпичникова тонконогая оглобля при людях к Терентию в упряжку просится. Да и тряпичник Дягилев тоже, надо думать, не зря трешки-пятерки Терешкиному отцу ссужал и назад не брал. Намеки подавал. А пять рублей по тем временам - две овцы с гаком. Или соха с хорошим лемехом. Деньги!
Долго раздумывал отец Терентия. Соображал, прикидывал, то и это принимал во внимание, а потом как-то надоело ему слушать венскую малиновую тоску. И он решил сказать сыну сыромятным чересседельником свое последнее отцовское слово.
Стихла заливистая, голосистая плакальщица. Повеселела желтозубая жердь Домна Дягилева. Залилась неутешными слезами у лесника ягодка-земляниженка. Запели девки в Бахрушах:
Закатилось... Ой, да закатилось
Солнце красное за синий лес...
Получил отец в задаток половину приданого: пятьсот рублей. Бревен купил, плотников нанял, потому как немыслимо было невесте с четырьмя шубами да пятью сундуками в бахрушинскую малуху об одной раме въезжать.
Вошла Домна в новый дом купленного для нее Терентия. Навела красу-басу в больших горницах. Не домотканые, а в Тюмени купленные половики постлала, филейные шторки повесила, горку с золоченой посудой поставила. Белым самоваром поклонилась Домна свекровке Бахрушихе, злоказовское сукно свекру поднесла. И что ни праздник, то новое подношение.
Не жалел тряпичник Дягилев платы за купленного зятя. Самый первый граммофон у нас, в Бахрушах, запел именно в доме Терентия. Запел этот граммофон, когда Дягилев дедом стал, а Домна - матерью.
Теперь-то уж прощай навечно, земляника-ягода! Граммофон на все село нерушимую привязку мужа к жене славит. Эту-то привязку в честь деда-тряпичника Дягилева Трофимом окрестили.
Весело пел граммофон, а недолго. Попу допевать пришлось. Мало пожила после крестин роженица. С неделю. Не по соломинке был колосок, не по ветке яблоко. Пудовым ребенком родился Трофим. Дягилев при всей родне на тряпичном безмене внука взвешивал. Богатырским весом похвалялся. А вес-то его матери жизнь перевесил...
Скончалась Домна. Овдовел Терентий. Приуныл Дягилев.
А моя суженая Пелагея Кузьминична только-только на свет появилась... Ее-то маманя, моя будущая теща, и пожалела осиротевшего мальца. Двоих стала грудью кормить. Стало быть, маленького Трошку и мою Палашеньку. А отсюда вы можете сделать организационные выводы. Значит, Трофим Бахрушин и моя жена молочные брат и сестра. А коли так, пусть она дальше рассказывает, а я трубочку пока покурю.
IV
Продолжение этого рассказа, по признанию большинства бахрушинских стариков, в устах Пелагеи Кузьминичны Тудоевой звенело куда лучше.
Поэтому пусть она и продолжит прерванную нить повествования.
Вот ее голос:
- Днями да неделями, месяцами да годами солнышко свой счет ведет, а язык свою меру знает. Десяток слов складно сложил - десять лет в побывальщине прожил...
Году не прошло, как Луша простила Терентию его сыновнюю покорность родителю. К тому же в те поры люди под богом ходили, во всем божий промысел видели... Простила Луша и Домну Дягилеву за то, что та у нее суженого увела. И как не простить, коли Домна за это смерть приняла. Не одна Луша так судила, все так промеж себя думали, всем селом Лушу за Терентия сватали. На что старый лис Дягилев - и тот на свадьбу сулился. Его ведь внук у Терентия рос. Как о хорошей мачехе для внука не порадеть!
Пошла Луша перед венцом на Домнину могилу. Посадила там невымерзающий многолетний розан и дала нерушимую клятву покойнице быть родной матерью маленькому Трофиму. Такой она и была до смутного года, когда пришел Колчак... Ну да не будем вперед солнышка забегать. До Колчака-то Луше еще лет восемнадцать жить надо.
Вошла Луша в дом суженого. Посветлело в доме Терентия. В материнскую холу попал годовалый Трофим. Утром, только откроет глаза, Лушу матерью кличет. Как не любить такого мальца, коли он от голоса до волоса, от глаз, от лица до последнего родимого пятнышка в Терентия уродился. Будто Домна для него была как чужое гнездо для кукушоныша...
А вскорости Лукерья и своего сынка принесла. Нашего председателя колхоза. Мала я была тогда, а помню Петра Терентьевича у материнской груди. Он тоже, как и Трофим, родился тяжеленьким боровком, с нелегким норовком. Таким и теперь остался. Что в голову войдет, колом не выбьешь. И помяните мое слово, перевезет он всех нас из старых Бахрушей в Новое Бахрушино... Ну да не будем счет годам путать, старое с новым в одном корыте мешать.
Расцвела Луша. Еще краше стала, чем в девках была. Никакая одежа ей красоты убавить не могла. В холстине лебедем плыла. В дерюге королевной ходила. Терентий ее только на божницу не сажал. На руках из бани носил. И свекровь со свекром Лушу почитали. Как-никак совесть-то мучила. Они ведь, а не кто-нибудь, Домну Терентию высватали. Хоть и не поминали об этом, а помнили.
Тряпичник Дягилев тоже оказывал ей всякое. Подсоблял, чем только мог. Раскошеливался. Одаривал Лукерью. Названой дочерью величал. Богоданной матерью называл. А на уме свое держал. Наследником своего тряпичного дела внука Трошеньку видел. Время выжидал. Что ни говори, от родного отца сына не отберешь. А когда станет на ноги Трофим, сам в дедов дом придет. Для кого-то ведь были положены в Сибирском торговом банке семь тысяч рублей. На кого-то записан дягилевский дом... А пока да что - ладить надо. Надо любить ненавистную Лушку, возить ей шелковые полушалки с Ирбитской ярмарки, гладить по головке ее отпрыска Петьку.
Если умным хочет быть волк, у лисы повадку перенимает.
Так оно и шло до поры до времени. А как время пришло, придрался тряпичник к Терентию за то, что не может он после церковноприходской школы учить Трофима в городе. Переманил внука в свое тряпичное логово и стал ожесточать его сердце не только против мачехи, но и против родного отца. Долго, видно, старик выискивал да копил в себе змеиные, гадючьи слова, коли сумел отколоть Трошку на четырнадцатом году от бахрушинской семьи. Сумел внушить внуку, что его покойную мать никогда не любил Терентий. Не брезговал серый волк в лютой злобе и напраслиной. Плел, будто Домна не от родов померла. Наговаривал, что будто Лушкины лесные чары свели Трофимову мать в могилу...
Знал серый, что делал. Умел кривить своей тряпичной душой. Вымещал зло за свои денежки, за дом, в котором жили Бахрушины. Волчонком растил внука старик.
Трошке еще и шестнадцати годов не минуло, как дедово прозвище "серый волк" на него перешло.
Чужим стал Трофим родному отцу. Дед теперь для него был одним светом в глазу, бабка - родимой матерью, а тряпье да кости, рога да копыта наживой. Тоже стал рыскать молодой волк по нашим деревням и не одни рога да копыта высматривать... Скупал все, на чем можно было нажиться. Скотом переторговывал, сбруей - и той у несчастных пропойц не брезговал. Водку бутылями при себе возил, чтобы не утруждать горемык в кабак бегать...
Вот еще когда у двух братьев дорожки разошлись в разные стороны. Один волчьей тропой побежал свою добычу вынюхивать. Другой - трудовой дорогой с народом пошел, для всех счастье добывать. Только об этом другой разговор. И для него, пожалуй, мой бабий голос тонок будет. К тому же Кирилл лучше знает про то, как Трофим беляком стал, а наш Петр Терентьевич с семнадцати годов за Советскую власть воевал.
V
Теперь опять следует послушать рассказ старика Тудоева.
- После того как грянул гром и сотряслась вся наша земля и я, испораненный, испрострелянный, приковылял на костылях в Бахруши, Советская власть в полную силу окоренялась.
К той поре нашему Петру Терентьевичу совсем еще мало годов было, а он уже, как сочувствующий, в народной милиции добровольцем состоял. А Трофиму двадцать стукнуло, и у него была тайная зазноба. Сирота из Дальней Шутёмы. Даруней звалась, по метрикам Дарьей значилась, по отцу Степановной величалась. Узнаете, о ком речь идет?
И была тогда Дарунюшка как березка весной. Гибкая, да не хлипкая. Все умела. И хлебы пекчи, и мыть, и стирать... В доме изобиходить, корову подоить. И грамоте знала... Умела читать и писать и на счетах считать... За это-то и подобрал ее старик Дягилев. Работницей в дом взял сироту, а того и не знал, что Даруню Трофим к деду подослал. До свадьбы, стало быть, свою невесту сумел в дом ввести. А у тряпичника для Трофима другая была на примете. Тоже ни кожи, ни рожи, как у Домны-покойницы, зато в придачу к ней лавка. Бакалейная. Хоть и отобранная лавка была под какой-то там склад, а надежда не терялась... Дягилев только для виду на своих воротах красный флажок пристроил да всякие слова против царя и буржуев говорил, а про себя свое держал. Другую власть ждал. Умел волк овечкой прикидываться. Думал: как в пятом году, пошумят, побунтуют - и все дело опять царем кончится.