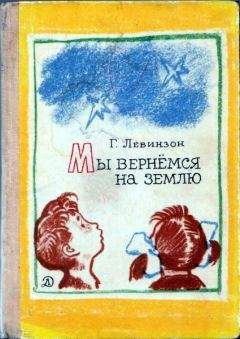С Горбылевским я сидел за одной партой, но прошлым летом мы с ним все время ссорились, и в начале учебного года я турнул его со своей парты, хоть Горбылевский и кричал:
- С каких пор эта парта стала твоей?
Горбылевский сел с Мишенькой Теплицким, а Мишенькин сосед Чувалов со мной. Это тот самый, который крыши рисует. Он и не подумал скрывать, как он доволен, что очутился рядышком с Быстроглазым. Я не удивился такому простодушию: личность он малоавторитетная, в классе его пинают и щиплют просто так, от нечего делать, хоть он рослый и на вид здоровяк. Я стал здороваться с ним за руку и иногда отгонял от него тех, кому нравилось шлепать его по широкой спине. И вот Чувал стал поглядывать на меня с благодарностью. Однажды он отломил мне от своего завтрака. Хлеб был какой-то помятый и вроде бы влажный, повидло кислое, и нельзя было понять, из чего оно приготовлено. Жалкий товарищ. Я ему как-то сказал:
- Ты зашел бы ко мне.
Он через час после этого притащился с папкой, набитой рисунками, сел на диван, положил папку на колени и сказал:
- Я пришел.
У меня Марат Васильев как раз был. Мы с ним ждали Мишенькиного звонка. Марат Васильев все спрашивал меня глазами: "А этот тут зачем?" Чувал был обут в кроссовки. Штанины брючонок взбились, и стало заметно, что кожа у него выше лодыжек шелушится - хотелось подарить ему флакончик глицерина. Думалось, это у него оттого, что он такие невкусные завтраки ест. Нужно было посмотреть его рисунки. Я сказал:
- Давай показывай.
Он смутился и стал показывать - крыши, конечно. Черепичные и железные. Антенны, трубы, тени. Крыши ночью и крыши днем, под луной, в дождик, одна крыша была под самыми облаками, так что тучка за трубу зацепилась. На некоторых, крышах человек был нарисован.
- Тоже в тапочках, - сказал мне шепотом Марат.
Только кроссовками этот человек и походил на Чувала. Он был старше, десятиклассник на вид, худощавый, в рубашке в обтяжку и в джинсах: ходил по крышам, танцевал почти у края, сидел, свесив ноги, стоял, глядя на луну. На одном рисунке он сидел, обхватив колени, и думал, а напротив него сидел кот и тоже думал. Хвалить особенно нечего было.
Марат ткнул пальцем в кота. Мы посмеялись над этим мыслителем - кот был здорово нарисован. Тогда Чувал взял чистый лист из папки и карандашом быстро нарисовал пять котов: испуганного, сытого, голодного, спящего (сразу было видно: ему снится веселый сон) и кота в сапоге. Как он очутился там, бедняга, в громадной ботфорте со шпорой? Только голова торчала, испуганная рожица усатика. Было понятно: еще не скоро ему удастся выбраться.
Я тут же лист с этими рисунками к коврику над диваном приколол. Непонятно было, зачем Чувал рисует дурацкие крыши и ненормального малого, который днем и ночью по этим крышам лазает, если умеет так здорово котов рисовать. Марат Васильев попросил, чтобы Чувал и для него рисунок сделал. Чувал тут же нарисовал большущего кота, во весь лист, - кот этот убегал, страшно испуганный. Скорей всего, это тот самый был, который в сапог попал, а теперь выбрался и драпал. Может, ему казалось, что сапог за ним гонится? Чувал, наверно, много интересного знал об этом коте. Но я не стал расспрашивать: еще завоображает.
Папа появился в комнате как будто специально для того, чтобы подружиться с Чувалом. Видели б вы, как они сидели рядышком на диване: Чувал по одному доставал рисунки из папки и показывал. Папа оказался ценителем, даже волноваться начал. Меня так и подмывало сказать, что зря он себя так ведет, как будто Чувал в этой комнате первый человек. Нельзя же выделять кого попало. И начало казаться: может, рисунки Чувала в самом деле хорошие? Хотелось подойти и вместе с папой рассматривать. Вот тебе на!
Позвонил Мишенька и сказал, что может нам кое-что интересное показать. Мы с Маратом ушли. А человек в кроссовках остался с папой.
Но Мишенька нам ничего интересного не показал, просто ему хотелось, чтобы мы поскорее к нему пришли. Мы пытались поговорить о чем-нибудь, но без телефона у нас не вышло. Кончилось тем, что я сказал Мишеньке:
- А ну тебя к черту! - и ушел.
Я оставил их с Маратом скучать, а сам решил вернуться домой, позвонить Горбылевскому и рассказать, как два долдона скучают и ничего придумать не могут, хоть тресни.
Недалеко от нашего дома, напротив старинной церквушки, есть скверик на четыре скамейки. В этом скверике я увидел папу и Чувала: они сидели рядышком, ели мороженое и разговаривали. Они-то не скучали. Я почему-то не подошел к ним, а повел себя по-шпионски: стал наблюдать. Я постарался вспомнить, когда в последний раз вот так с папой разговаривал. Но ничего не вспоминалось. Получалось, что не было у нас таких разговоров. Чувал доел мороженое, достал из кармана коробку фломастеров (я сразу понял мои), вытащил один из них и стал рисовать.
Папа следил за его рукой, придвинулся к нему поближе - они сидели плечо в плечо. Как отец и сын. Мне все это ужасно не понравилось. Я пошел домой.
Дома я сразу же выдвинул ящик своего письменного стола: так и есть фломастеры исчезли. Правда, я ими никогда не пользовался - я попросил деда купить их, потому что у каждого человека среди прочих вещей должны быть и фломастеры. Но все равно я был возмущен и приготовил слова для разговора.
- Что это ты раздариваешь мои вещи? - спросил я папу, как только он появился. - Другие отцы думают, прежде чем подарить кому-нибудь хотя бы пуговку своего сына!
Я упрекнул папу, что он вообще мало обо мне думает и недостаточно мне внимания уделяет, - а дети сами собой не воспитываются.
- Ты не ленись, - закончил я, - а фломастеры мне купи другие.
- Ты ими не пользовался, - сказал папа.
- Мало ли что, мне хотелось, чтоб они у меня были.
Терпеть не могу, когда у меня чего-то нет. Папе этого не понять. Он сел в кресло и стал размышлять над "ситуацией". Когда "ситуация" возникает, он всегда садится и обдумывает. Иной раз он такое открывает в "ситуации", что только диву даешься.
- Давай завтра сходим в кино, - сказал я. - Как отец с сыном. Понял?
У меня уже все было обдумано: купим мороженого, посидим перед сеансом на скамейке, что возле кинотеатра "Мир"; тут я прижмусь к нему плечом, и мы поговорим, как отец с сыном, - всякому завидно станет.
Папа обдумал "ситуацию" и сказал:
- Этот мальчик лучший среди вас. Глубокий, тонкий человек. И он талантлив.
- Пусть себе талантлив, - сказал я, - у меня от этого голова не закружится! Если хочешь знать, это малоавторитетная личность, совсем беспомощный.
Вот тут выяснилось, что папа все-таки открыл кое-что в "ситуации".
- Ты приревновал, - сказал он. - Как это глупо! Человек нуждается, чтоб к нему проявили интерес, чтоб одобрили, признали. Неужели не понятно? Он вас просил об этом, а вы не видели!
И пошли тонкости. Я не особенно вникал. Мама как-то сказала, что папины тонкости требуют специальных средств обнаружения. Я не ношу с собой специального прибора. Нет у меня его. Он договорился до невероятного сказал, что на Чувале печать сиротства и душевной огорченности. Наверно, отец ушел или еще что-нибудь стряслось - он, видите ли, сразу это заметил, потому что сам через это прошел. Я знал, что у Чувала есть отец, но лучше было об этом помалкивать: зачем родного отца дурачком выставлять?
Папа расстроился и стал смешным. Я подумал: "У тебя у самого душевная огорченность". Опять с ним это случилось. Он огорчается из-за всего: из-за того, что есть мерзавцы, которые матерятся на улицах, из-за того, что люди толкаются в очереди, отпихивают друг друга, готовы ходить по головам, только бы купить одежку, которая считается модной. Одно время он ко всем приставал с разговором о воспитателе в интернате, который орал на детей и раздавал подзатыльники, когда никого из взрослых поблизости не было. Люди его выслушивали и отвечали: "Бывает". Конечно, бывает. Всякое бывает. Нужно это знать заранее. Нельзя же каждый раз расстраиваться. Он спросил:
- Ты понял, что я говорил?
Я ответил:
- Ага. Тонкости.
- Не понял, - сказал он. - Ты от меня ускользаешь. Иногда мне кажется, что я тебя потерял.
- Да вот он я! Чувствуешь? - Я прижался к нему, спрятал лицо и улыбнулся смешному слову "ускользаешь".
В кино мы решили идти в тот же день, а не завтра. У папы был такой вид, как будто он пережил большое потрясение. Он купил в киоске три сигареты. Две из них он тут же выбросил в урну, а одну закурил. Наверно, он одну сигарету купить постеснялся: о продавцах думает.
Мы купили мороженое и посидели с полчаса на скамейке плечо в плечо, разговаривая об интересном. Все было как полагается. И все же мне казалось, что у Чувала с папой это вышло лучше. Наверно, если бы Чувал был папиным сыном, они бы дружили, все бы у них получалось само собой и Чувалу не надо было бы заранее придумывать.
Я стал хуже относиться к Чувалу. Я решил, что на следующий год отделаюсь от него, а к себе за парту посажу кого-нибудь другого, хотя бы Марата Васильева. А Чувал тянулся ко мне: показывал мне свои рисунки теперь он все время кошек рисовал и передавал по рядам, - протягивал мне половинки своих завтраков, от которых у людей ноги шелушатся. Я этих завтраков стал бояться, как девчонки мышей. Но скоро он заметил мою холодность, приуныл и - простодушный человек! - даже не старался этого скрыть. Как-то я достал из портфеля свой завтрак и заметил, что Чувал смотрит на меня с возмущением. Не мог он понять, почему я ни разу не поделился с ним, - он же со мной делится. А я прошел мимо него той самой походкой, которая появилась у меня, когда бабушка повязала мне красный бант на шею, задел его плечом, но даже не взглянул на малоавторитетного человека. Вот тогда он и сказал мне вслед: