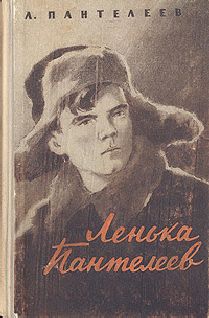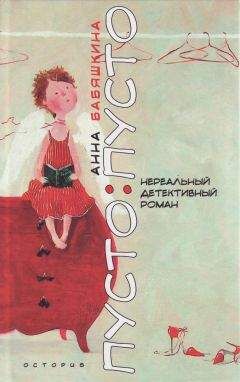В гостиной веселая горничная Стеша мокрой половой тряпкой вытирала паркет. Ленька увидел на тряпке кровь.
- Это почему кровь? - спросил он у Стеши.
- А вы подите об этом с папашей поговорите, - посоветовала ему Стеша.
Ленька пойти к отцу не осмелился. Он несколько раз порывался это сделать, подходил к дверям кабинета, но не хватало храбрости.
И вдруг неожиданно отец сам вызвал его к себе в кабинет.
Он лежал на кушетке - в халате и в ночных туфлях - и курил сигару. Графин - с водой или с водкой - стоял у его изголовья на стуле.
Ленька поздоровался и остановился в дверях.
- Ну что? - сказал отец. - Выспался?
- Да, благодагю вас, - ответил Ленька.
Отец помолчал, подымил сигарой и сказал:
- Ну, иди сюда, поцелуемся.
Он вынул изо рта сигару, подставил небритую щеку, и Ленька поцеловал его. При этом он заметил, что от отца пахнет не только табаком и не только вежеталем, которым он смачивал каждое утро волосы. Пахло еще чем-то, и Ленька догадался, что в графине на стуле налита не вода.
- Вы меня звали, папаша? - сказал он, когда отец снова замолчал.
- Да, звал, - ответил отец. - Поди открой ящик.
- Какой ящик?..
- Вот этот - налево, в письменном столе.
Ленька с трудом выдвинул тяжелый дубовый ящик. В ящике царил ералаш. Там валялись какие-то папки, счета, сберегательные книжки. Под книжками лежал револьвер в кожаной кобуре, зеленые коробочки с патронами, столбики медных и серебряных монет, завернутые в газетную бумагу, портсигар, деревянная сигарная коробка, пробочник, замшевые подтяжки...
- Да, я открыл, - сказал Ленька.
- Поищи там коробку из-под сигар.
- Да, - сказал Ленька. - Нашел. Тут лежат конверты и марки.
- А ну, посмотри, нет ли там чистой открытки. Есть, кажется.
Ленька нашел открытку. Это была модная английская открытка, изображавшая какого-то пупса с вытаращенными глазами и на тоненьких ножках, обутых в огромные башмаки.
- Садись, пиши, - приказал отец.
- Что писать?
- А вот я тебе сейчас продиктую...
Ленька уселся за письменный стол и открыл чернильницу. На почерневшей серебряной крышке чернильницы сидел такой же черный серебряный мальчик с маленькими крылышками на спине. Чернила в чернильнице пересохли и загустели, - отец не часто писал.
- А ну, пиши, брат, - сказал он. - "Дорогой дядя Сережа!" Ты знаешь, где писать? Налево. А направо мы адрес напишем.
"Дорогой дядя Сережа, - писал под диктовку отца Ленька, - папаша наш изволил проспаться, опохмелиться и посылает Вам свои сердечные извинения. С утра у него болит голова и жить не хочется. А в общем - он плюет в камин. До свидания. Цалуем Вас и ждем в гости. Поклон бабушке. Любящий Вас племянник Алексей".
Выписывая адрес, Ленька поставил маленькую, но не очень красивую кляксу на словах "его благородию". Он испуганно оглянулся; отец не смотрел на него. Запрокинув голову, он глядел в потолок - с таким кислым и унылым выражением, что можно было подумать, будто сигарный окурок, который он в это время лениво сосал, смазан горчицей.
Ленька приложил клякспапир, слизнул языком кляксу и поднялся.
- Ну что - написал? - встрепенулся отец.
- Да, написал.
- Пойдешь с нянькой гулять - опусти в ящик. Никому не показывай только. Иди.
Ленька направился к двери. Уже открыв дверь, он вдруг набрался храбрости, кашлянул и сказал:
- А что такое случилось? Почему это вы извиняетесь перед дядей Сережей?
Отец с удивлением и даже с любопытством на него посмотрел. Он привстал, крякнул, бросил в пепельницу окурок, налил из графина в стакан и залпом выпил. Вытер усы, прищурился и сказал:
- Что случилось? А я, брат, вчера дурака свалял. Я твоего дядюшку чуть к Адаму не отправил.
Сказал он это так страшно и так нехорошо засмеялся при этом, что Ленька невольно попятился. Он не понял, что значит "к Адаму отправил", но понял, что вчера ночью отец пролил кровь единоутробного брата...
Несколько раз в год, перед праздниками и перед отъездом на дачу, мать разбиралась в сундуках. Перетряхивались шубы, отбирались ненужные вещи для продажи татарину или для раздачи бедным, а некоторые вещи, те, которые не годились и бедным, просто выбрасывались или сжигались. Ленька любил в это время вертеться около матери. Правда, большинство сундуков было набито совершенно дурацкими, скучными и обыденными вещами. Тут лежали какие-то выцветшие платья, полуистлевшие искусственные цветы, бахрома, блестки, аптечные пузырьки, дамские туфли с полуотвалившимися каблуками, разбитые цветочные вазы, тарелки, блюда... Но почти всегда среди этих глупых и ненужных вещей находилась какая-нибудь занятная или даже полезная штучка. То перочинный нож с обкусанным черенком, то ломаная машинка для пробивания дырочек на деловых бумагах, то какой-нибудь старомодный кожаный кошелек с замысловатым секретным замочком, то еще что-нибудь...
Но самое главное удовольствие начиналось, когда приходила очередь "казачьему сундуку". Так назывался на Ленькином языке сундук, в котором уже много лет подряд хранилась под спудом, засыпанная нафталином, военная амуниция отца. Это был целый цейхгауз[3] - этот большой продолговатый сундук, обитый латунью, а по латуни еще железными скобами и тяжелыми коваными гвоздями. Чего только не было здесь! И ярко-зеленые, ломберного сукна, мундиры, и такие же ярко-зеленые бекеши, и белоснежные пышные папахи, и казачье седло, и шпоры, и стремена, и кривые казацкие шашки, и войлочные попоны, и сибирские башлыки, и круглые барашковые шапочки с полосатыми кокардами, и, наконец, маленькие лакированные подсумки, потертые, потрескавшиеся, пропахшие порохом и лошадиным потом.
В этих старых, давно уже вышедших из употребления и уже тронутых молью вещах таилась для Леньки какая-то необыкновенная прелесть, что-то такое, что заставляло его при одном виде казачьего сундука раздувать ноздри и прислушиваться к тиканию сердца. Казалось, дай ему волю, и он способен всю жизнь просидеть на корточках возле этого сундука, как какой-нибудь дикарь возле своего деревянного идола. Он готов был часами играть с потускневшими шпорами или с кожаным подсумком, набивая его, вместо патронов, огрызками карандашей, или часами стоять перед зеркалом в круглой барашковой шапочке или в пушистой папахе, при этом еще нацепив на себя кривую казацкую саблю и тяжелый тесак в широких сыромятных ножнах. Эти старые вещи рассказывали ему о тех временах, которых он уже не застал, и о событиях, которые случились, когда его еще и на свете не было, но о которых он столько слышал и от матери, и от бабушки, и от няньки и о которых только один отец никогда ничего не говорил. Об этих же событиях туманно рассказывала и та фотография, на которую Ленька однажды случайно наткнулся в журнале "Природа и люди".
Молодой, улыбающийся, незнакомый отец смотрел на него со страниц журнала. На плечах у него были погоны, на голове - барашковая "сибирка". Ремни портупеи перетягивали его стройную юношескую грудь.
Ленька успел прочитать только подпись под фотографией: "Героический подвиг молодого казачьего офицера". В это время в комнату вошел отец. Он был без погон и без портупеи - в халате и в стоптанных домашних туфлях. Увидев у Леньки в руках журнал, он кинулся к нему с таким яростным видом, что у мальчика от страха похолодели ноги.
- Каналья! - закричал отец. - Тебе кто позволил копаться в моих вещах?!.
Он вырвал журнал и так сильно ударил этим журналом Леньку по затылку, что Ленька присел на корточки.
- Я только хотел посмотреть картинки, - заикаясь, пробормотал он.
- Дурак! - засмеялся отец. - Иди в детскую и никогда не смей заходить в кабинет в мое отсутствие. Эти картинки не для тебя.
- Почему? - спросил Ленька.
- Потому, что это - разврат, - сказал отец.
Ленька не понял, но переспрашивать не решился.
Выходя из кабинета, он слышал, как за его спиной хлопнула дверца книжного шкафа и как несколько раз повернулся в скважине ключ.
...Ленькин отец, Иван Адрианович, родился в старообрядческой[4] петербургской торговой семье. И дед и отец его торговали дровами. Отчим, то есть второй отец, торговал кирпичом и панельными плитками.
Среди родственников Ивана Адриановича не было ни дворян, ни чиновников, ни военных: все они были старообрядцы, то есть держались той веры, за которую их дедов и прадедов, еще при царе Алексее Михайловиче, жгли на кострах. Триста лет подряд изничтожало и преследовало их царское правительство, а православная правительственная церковь проклинала, называла еретиками и раскольниками.
Поэтому старообрядцы, даже самые богатые, жили особенной, замкнутой кастой, отгородившись высокой стеной от остального русского общества. Даже в домашнем быту своем они до последнего времени держались обычаев и обрядов старины. В церковь свою ходили не иначе, как в долгополых старинных кафтанах, а женщины - в сарафанах и в беленьких платочках в роспуск. Женились и замуж выходили только в своей, старообрядческой среде. Учили детей в своих, старообрядческих школах. Ничего нового, иноземного и "прелестного" не признавали. В театры не ездили. Табак не курили. Чай, кофе не пили. Даже картофель не ели...