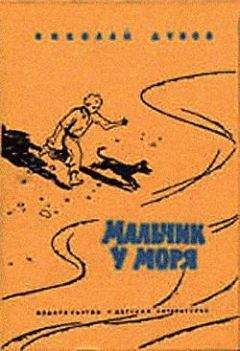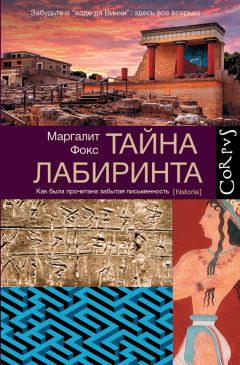Вот кто был на самом деле умнейший и добрейший, несравненный и необыкновенный — словом, мировейший из мировых. И как дико, бешено повезло Антону, что дядя Федя получил ордер на комнату в той же квартире на Чоколовке, куда переехали они.
Как только в новой квартире расставили мебель, все прочее имущество разложили и растыкали по углам, мама и папа уехали в очередную командировку, Антон остался с тетей Симой. Большую часть времени они проводили в кухне: там ели, чтобы не пачкать в комнате, там читали или просто разговаривали, если вечер был пустой, то есть Антону не удалось сбежать в «киношку». В один из таких пустых вечеров они сидели после ужина и разговаривали. Вернее, говорила одна тетя Сима о том, что коммунальная квартира — это все-таки плохо. Пока они одни, в квартире и чисто и тихо, потом, как переедут, — мало ли кто может переехать! — и начнется, как на прежней… В это время раздался звонок. Антон побежал в прихожую, открыл. За дверью стоял человек с чемоданом и рюкзаком…
— Разрешите? — спросил он, отвернулся и сказал кому-то в сторону: — Сидеть и ждать!
Он закрыл за собой дверь, поставил чемодан.
— Давайте знакомиться. Ваш соквартирник. Зовут Федором Михайловичем. Нрав смирный, почти кроткий, хотя и не совсем ангельский. Подробности потом. Простите, сгораю от нетерпения увидеть свои апартаменты… Вот это? — Он открыл ключом дверь пустой комнаты, зажег свет и присвистнул. — М-да, — сказал он. — Променять «роскошный полуизолированный полуподвал в центре гор. без уд.» на эту шкатулку для лилипутов!…
Тетя Сима с плохо скрытой надеждой спросила:
— А вы женаты?
— К счастью, не успел… Но семейство у меня есть. Я не хотел вас сразу травмировать.
Он подошел к двери, отключил собачку замка и громко сказал:
— Бой, открой дверь и входи.
От резкого, сильного толчка дверь распахнулась настежь, и порог переступило невообразимо черное и огромное существо.
Антон почувствовал вдруг, что у газовой плитки чрезвычайно острый и твердый угол.
Тетя Сима попятилась, наткнулась на табуретку, машинально села и, прижав руки к груди, сказала слабым голосом:
— Что… что такое?
— Мой песик. Собачка.
— Собачка? Это… это же медведь!
— Некоторое сходство есть, но чисто физиономическое. Что же касается калибра, то черные медведи меньше, а бурые несколько крупнее. Да вы, пожалуйста, не бойтесь, личность он интеллектуальная и вполне воспитанная.
«Интеллектуальная личность» заполнила всю кухню. От носа до кончика хвоста в нем было не меньше двух метров. Густая длинная шерсть переливалась крупными волнами. Она блестела под светом лампочки, будто смазанная маслом. Могучая шея обросла пышным воротником, а грудь была так велика, что передние мощные лапы казались короткими. Длинный пушистый хвост страусовым пером свисал до бабок. Пес стоял неподвижно, подняв голову, внимательно слушал, что говорил Федор Михайлович, и поглядывал то на тетю Симу, то на Антона.
— Ну вот, Бой, — сказал Федор Михайлович. — Теперь это наши соседи. Их надо любить, они хорошие. — Кончик страусового пера слегка вильнул влево и вправо. — Иди поздоровайся с тетей.
Бой сделал два шага, слегка приподнял голову, из полуоткрытой пасти высунулся длиннющий ломоть розовой чайной колбасы и лизнул тетю Симу в щеку.
— Ох, оставьте, пожалуйста, я не люблю этих штук! — очень вежливо сказала тетя Сима.
— Отставить, Бой, этого не любят.
Бой вильнул хвостом и зевнул.
— Он не понял, почему не любят… Теперь с мальчиком. Тебя как зовут?… Антон? Не бойся, Антон, погладь его.
Бой подошел к Антону и обнюхал. Угол плиты стал еще тверже и острее. Внутри у Антона все похолодело и опустилось куда-то вниз. Он с трудом поднял одеревенелую руку и положил Бою на холку. Руку для этого пришлось согнуть.
— Порядок, — сказал Федор Михайлович. — Теперь иди сюда, а то Антон сейчас задохнется.
Бой отошел, Антон шумно вздохнул.
— На первый взгляд он действительно несколько великоват. Но, уверяю вас, вы скоро привыкнете. И полюбите. Со своими он безукоризненный джентльмен. Как истый джентльмен, он всегда во фраке и манишке… Бой, сидеть, покажи свою манишку.
Бой сел, на груди у него оказалось крупное белое пятно. Насколько весь он был черен, настолько белой была длинная шерсть «манишки».
— Чтобы покончить с официальной частью, представляю: порода — ньюфаундленд, имя — Бой. Полный титул — Бой, сын Долли Ландзеер и Рейнджера Третьего Великолепного. Что касается родословной, то такой нет у меня, наверное, у вас и во всяком случае нет у шаха иранского. Предки Боя перечислены до десятого колена, у шаха — всего два…
Бой снова зевнул.
— Тебе жалко шаха? Пускай, так ему и надо…
Антон уже дышал нормально, не чувствовал угла плиты. Первоначальный испуг перешел в восторженный столбняк.
— А лапу он дает?
— Попроси.
— Антон, умоляю тебя! — сказала тетя Сима.
— Смелей, смелей, ничего страшного не произойдет.
Антон присел и протянул руку:
— Дай лапу, Бой. Ну дай!
Бой посмотрел на него, на хозяина, отвернул голову в сторону и небрежно, вбок, поднял лапу.
— Видишь, — сказал Федор Михайлович. — Давать лапу, ходить на задних лапах — занятие для болонок и прочих шавок. Бой слишком велик и умен, чтобы это доставляло ему удовольствие. Вот если вы поссоритесь, он тебе сам протянет лапу, чтобы помириться…
— Ну да?
— Увидишь.
Тетя Сима подошла к крану и вымыла щеку, в которую Бой ее лизнул.
— Опасаетесь микробов? — улыбнулся Федор Михайлович.
— И глистов, — отрезала тетя Сима.
— Напрасно. Слюну у собак можно считать антисептической…
— Я предпочитаю все-таки антибиотики… А где вы его будете держать?
Тетя Сима посмотрела на плиту, уставленную кастрюлями, кухонный стол. Голова Боя возвышалась над столешницей.
Федор Михайлович перехватил ее взгляд.
— На этот счет не опасайтесь. Его можно оставить наедине с тушей мяса — не прикоснется. Он носит в зубах колбасу, жареную печенку и даже не прокусывает бумагу. Жить он будет, разумеется, в комнате. Если его оставить здесь, он будет бахать лапой в дверь, пока я его не впущу.
— А в квартире он… — тетя Сима замялась, — ничего такого не делает?
— Не беспокойтесь, собака в квартире «ничего такого» делать не умеет.
— Все это очень хорошо, — поджав губы, сказала тетя Сима, — я еще понимаю, маленькая собачка, но держать такого громилу в квартире!… Кажется, даже есть какое-то постановление насчет собак…
— Давайте так: если вы за неделю не поладите с Боем, я оставляю поле битвы, или, говоря вульгарной прозой, съезжаю с квартиры.
— Оставите комнату? Куда вы денетесь?
— В даль и в ночь… — засмеялся Федор Михайлович.
Федор Михайлович знал, что говорил. Тетя Сима растаяла в два дня. Бой неизменно был доброжелателен и ласков без назойливости. Каждое утро, как только Федор Михайлович открывал дверь, он появлялся в кухне, подходил ко всем по очереди и приветливо, но без больших размахов вилял хвостом — здоровался. Целовать тетю Симу он больше не пытался — запомнил. Он не был надоедливым, не приставал и никогда ничего не клянчил. Иногда у него появлялось желание поиграть. Тогда он брал в пасть свою любимую игрушку — теннисный мячик, подходил к кому-нибудь и деликатно толкал мячиком в руку. Если предложение не встречало отклика, отходил и ложился. Появлению знакомых Бой радовался и обязательно со всеми по очереди здоровался. Но если в прихожей начинался грохот, это означало, что пришел Федор Михайлович. Бой ужом вился вокруг него, нещадно колотил хвостом по дверям, стенам, сундуку, который загромождал и без того тесную прихожую. Несколько раз Антону довелось попасть под эти удары, он отскакивал и потирал ушибленное место.
— Неужели ему не больно? Как палкой…
Ритуал встречи заканчивался тем, что Бой поднимался на дыбы, башка его оказывалась вровень с головой хозяина, и он лизал во что пришлось — в щеку, в нос, в ухо.
— Ну хватит, старик, не шуми, — говорил Федор Михайлович.
Бой успокаивался, но с этого момента неотступно ходил по пятам за хозяином, куда бы тот ни шел.
— Разве это собака? — сказала тетя Сима. — Это же попятошник!
— Вот именно, — сказал Федор Михайлович. — Пока я заметил у него только один, но зато чудовищный недостаток. Если он любит, то беспредельно и деспотично. Когда-то я был вольный казак, теперь я каторжник, прикованный к живой четырехлапой тачке, которая к тому же все понимает. Я не могу никуда уехать — один вид чемодана вызывает у него истерику. Хочу или не хочу, здоровый или больной, я должен вести его гулять. Я не могу отлучиться из дома больше, чем на восемь часов, я — увы! — не могу совершить ни одного безнравственного поступка, потому что этот поганец не спускает с меня глаз, а я не могу развращать его невинную душу…