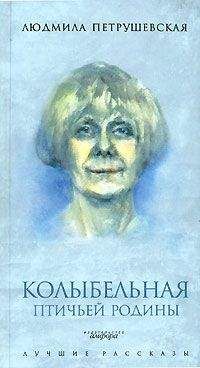полицая ножом.
– А мальчик?
– А мальчик забежал в ворота. Они – за ним, и там застрелили его.
Я не мог пошевелиться. И мне всё вдруг стало ясно. Папа думает, что я умер. Я хотел выбраться наружу, побежать, кинуться к нему на шею. Но почему же я этого не делаю? Почему даже не кричу? Всё просто. Я не верил, что папа может прийти. Теперь я понял это очень ясно. Я не верил в это уже давно. Ведь, если вдуматься, это было невозможно. Он не мог прийти. Но я себе в этом не признавался. Всё это время я не позволял себе сомневаться ни на секунду. И только это спасло меня от отчаяния.
Но сейчас я наконец-то мог позволить себе не верить и сомневаться. Потому что это был он, мой папа. Там. Наверху.
Я заставил себя встать. Я заставил себя идти. Я выбрался из дыры на поверхность, не заботясь о том, чтобы не шуметь. Они оба вскочили. Не от страха, просто от неожиданности.
– Тут ребёнок, – сказал первый.
Он тоже был большой и широкоплечий, как папа. Оба они были одеты в короткие меховые куртки и сапоги. Как деревенские. На головах у них были меховые шапки. Папа не мог меня сразу узнать. По крайней мере пока на глаза у меня была надвинута кепка. Но мне было трудно поднять руку, чтобы снять её. Меня душили подступившие слёзы. Это чувство уже было мне знакомо. Я боялся сдвинуться с места, потому что знал: одно движение – и плотину прорвёт ещё до того, как я окажусь рядом с ним.
– Алекс.
Он не крикнул. Просто сказал это каким-то странным голосом, каким говорят, когда вдруг сталкиваются с мертвецом.
– Папа.
Вообще-то здесь наступает конец моей истории. Но я не могу удержаться и не рассказать вам, как я спустил свою верёвочную лестницу на глазах у папы и его товарища. И с каким изумлением они смотрели на это, не веря тому, что видят. А ещё я рассказал им о стрелках, которые я придумал нарисовать на земле так, чтобы никто не обратил внимания. И о других моих рисунках: о двух линиях-границах, за одной из которых нельзя стоять в полный рост, а за другой – уже нельзя даже сидеть на корточках. Потом я показал им своё укрытие и пересказал всю историю с самого начала. Как я сюда попал, как поначалу жил в подвале, ничегошеньки не зная о бункере. Рассказал, как Грины не хотели отдавать мне нашу еду и как семья Марты забрала у меня то, что я нашёл. Вернее, то, что нашёл Снежок. Я рассказал про польских мальчишек и про каток. О Стасе. О пане Болеке и о докторе. И про мерзкого Янека. И про Фредди с Хенриком. И ещё – про доску, которую я должен вставить в окно наискосок, если мне понадобится помощь.
Мы сидели внутри. Папа уже знал, что в нашем бункере никого не осталось. Он успел там побывать. В шкафу было немного тесно. Я приготовил им «чай», и они пили его с кусковым сахаром вприкуску. Потом каждый из них съел по сухарю с повидлом. Я показал им склад наверху, в котором уже ничего не было, и рассказал, как обвалился верхний пол.
– Удивительно, что он вообще до сих пор держится, – сказал папа.
– Ты это, не каркай! – сказал его товарищ.
Папа никак не мог успокоиться. Он всё время смотрел на меня, рассматривал, вглядывался в моё лицо. Неужели я так изменился? Времени-то прошло совсем мало. Месяцев пять всего. Наверное, я немного подрос. И всё. Что ещё может быть? Папа сказал, что я был ребёнком, а теперь у меня лицо мужчины. Тут он ошибался, конечно. У меня ещё даже усы не начали расти. И голос не думал пока ломаться.
– Я просто научился справляться своими силами, – сказал я. – Вот и всё. А так – каким был, таким и остался.
Я рассказал папе про немецкого солдата и вынул пистолет, чтобы наконец отдать его хозяину. Пистолет был начищен и смазан – не хуже, чем когда я получил его от старого Баруха. Папа крепко обнял меня, прижал к себе.
– У тебя руки не дрожали?
Я почти обиделся.
– Папа, ты что? – возмущённо сказал я. – Забыл наши тренировки?
Он не забыл. Он вернул «беретту» мне и показал свой пистолет – большой и тяжёлый. Маузер. С такими ходили немецкие офицеры.
– Оставь «беретту» себе. Теперь она твоя, – сказал он.
А ещё папа был рад увидеть Снежка.
– Питомец твой тоже изменился, – сказал он со смехом. – Он раньше не был таким большим и толстым. Снежок, дружище, – неожиданно обратился он к мышонку, – пойдёшь с нами к партизанам?
И мы все втроём засмеялись. Но тихонько. Потому что внизу, на улице, были люди.
– Алекс, – вдруг сказал папа, – давай-ка, вставь доску в окно, как вы там договаривались с паном Болеком. Не думаю, что есть ещё какой-то пан Болек, кроме нашего единственного и неповторимого. Проведём встречу здесь.
Я нашёл подходящую доску и вставил её наискосок в оконную раму, стараясь не высовывать голову в окно.
И да – когда я обнял папу, я заплакал. Я обнял его изо всех сил. Я видел: папа тоже плачет. А я не знал, плачу ли я от радости или потому, что заждался. Я уже не верил, что папа придёт, хотя и не мог признаться себе в этом. А может быть, я плакал потому, что папа тоже плакал. Плач заразителен. Совсем как смех.