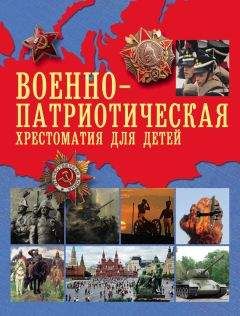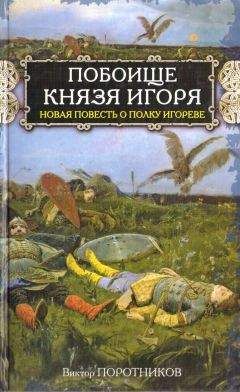По дороге, ведущей от Гутштадта, движутся усталые эскадроны. Дневка назначена в версте от местечка, в громадной долине между чахоточным леском и маленькой речонкой, невозмутимо катящей свои мутные воды.
Люди и кони порядочно-таки устали. Накануне, в день тезоименитства наследника и великого князя Константина Павловича, генерал-инспектора кавалерии, был сделан смотр войскам. Усталые от долгого перехода из России, они, однако, подтянулись и выказали себя молодцами на смотру, в присутствии высокопоставленного начальника и своих союзников-пруссаков. Зато сегодня усталость чувствовалась вдвое. И как назло, близость неприятеля не позволяет разложить костров и просушить как следует измокшие от дождя одежды.
О варке обеда не может быть и речи. Генерал-майор Каховский, командир коннопольцев, запретил «проявлять себя» раньше времени, то есть до боя. И, укрываясь в туман, стараясь как можно меньше производить шума, бедные уланы, уставшие до полусмерти, стройными рядами, взвод за взводом, неслышно двигаются по дороге.
В лейб-эскадроне, с края первого полувзвода, едут Вышмирский и Надя. Вчера на смотру ротмистр Казимирский представил обоих, отдельно от прочих вербовщиков, генералу, и Каховский, очарованный молодецкой выправкой этих двух юных уланчиков, а еще более растроганный их крайней молодостью, в знак особого расположения поместил их в почетные ряды лейб-эскадрона, под команду ротмистра Галлера, добрейшего и симпатичнейшего существа.
Но новизна положения и почетное назначение словно не радуют Надю, или, вернее, тень прежней сильной и энергичной Нади. Длинный переход из России в Пруссию дает себя знать. Подтянувшаяся на смотру и ухлопавшая на это последние силы, девушка неузнаваема теперь. Ее лицо иссиня-бледно от усталости и бессонницы. Глаза горят диким пламенем; они стали громадными – эти совсем черные, страшные, измученные глаза. Которую уже ночь Надя проводит без сна, в седле. Она не может спать на марше, как другие, как Вышмирский. От постоянной бессонницы голова ее идет кругом, мысли путаются. Уланы кажутся ей лесом, лес – уланами. Она вынимает из ножен саблю и долго смотрится, как в зеркало, в чисто отполированную поверхность стали. Боже мой! Ее ли это лицо, такое страшное, мертвецки бледное, с впалыми щеками и растрескавшимися губами? Ее ли это взгляд – дикий, как у горячечной?.. И голос давно уже потерял свою молодую упругость. Она едва держится, пошатываясь, в седле.
И при всем этом – безумное желание спать, уснуть на минутку, но как следует, на земле, на траве, на камне, лишь бы не на этой колеблющейся под седлом лошадиной спине.
– Я не могу больше, – глухо лепечет она в сторону своего друга и соседа по шеренге Вышмирского, – я выбился из сил… Уснуть, уснуть, хотя бы на мгновение!
– Эскадроны, равняйся! – слышится как сквозь сон несчастной девушке новая команда.
Слава богу! Ни Юзеф, ни другие не слышали ее жалобы! Бедненький Юзек сам едва жив от усталости. Куда девались нежные краски в его лице, вся его женоподобная трогательная красота прелестной девочки? Лицо его обветрило и загрубело. Но все же он счастливее ее, Начи. Он, по крайней мере, может спать в седле.
– Спать! Спать! Спать! – твердит она, как безумная, с напряжением вглядываясь в туманную даль.
Но вот остановка… Что это? Неприятель? Нет, полк остановился, чтобы перебраться на ту сторону реки… Будут переходить поэскадронно. О, она успеет спешиться и уснуть немного…
И, не долго раздумывая, Надя, едва держась на ногах от слабости, слезает с Алкида и, обмотав повод вокруг руки, засыпает в одну минуту тут же у ног лошади тяжелым нездоровым сном, не дающим успокоения.
Эскадроны стоят на месте в ожидании переправы. Солдаты спешились и стали вольно. Многие жуют хлеб всухомятку, иные полощут в реке белье, вынутое из ранцев.
– Ишь ведь спит как крепко! Умаялся, сердешный! – сочувственно говорит старый Спиридонов вахмистру чужого эскадрона, наткнувшись на лежащую в траве Надю.
– И чего тут развалился, постреленок! – сердито ворчит суровый вахмистр. – Тоже лезут в войско, когда молоко не обсохло еще на губах! У маменькиной юбки щи хлебать молокососу, а он, на тебе, туда же, в солдаты! Аника-воин какой выискался!
– Нет, Меркул Афанасьич, ты моего барчонка не тронь! – заступается дядька Спиридонов, преподаватель военного искусства Вышмирского и Нади. – Он лихо и пикой и саблей владеет, даром что молоденек… Храбрый мальчуган, говорю, будет; как о неприятеле заслышит, глазенками только и заблестит… А и притомился же, сердешный, ровно мертвый уснул.
– Эскадрон, на конь! Вперед! – слышится голос Галлера, и оба вахмистра стрелой несутся на свои места.
– Саша! Саша, проснись! Наша очередь! – шепчет испуганный Вышмирский и теребит Надю за плечо.
Надя открывает глаза, ничего не понимающие, вспухшие, с отяжелевшими красными веками.
– Что такое? – недоумевает она. – Боже мой, где мы?
Ей странно и дико видеть себя сейчас на голой земле, среди бряцающих оружием и стременами улан… Она только что грезила о доме, об отце, Васе… И зачем она здесь, как очутилась сарапульская Надя среди коней и солдат, готовившихся к переправе?
И только студеная, холодная вода речки, которую пришлось перейти вброд вместе с эскадроном, приводит в себя забывшуюся девушку.
«То был сон: и Сарапул, и отец, и Вася! – мысленно говорит она. – А Сарапула нет, Нади нет, и никого нет, а есть улан Дуров, коннопольский товарищ, которому надо идти сражаться против Наполеона…»
А рядом с ней Вышмирский, бледный, усталый, измученный не меньше ее самой. Вот он едет как лунатик на своем коне, не видя ничего, с открытыми глазами.
– Вышмирский, – говорит Надя и сама удивляется звуку своего голоса, так он стал глух и неприятен. – Ты спишь, Вышмирский?
– Ах, Дуров, до сна ли? У меня все тело ноет, как избитое! Проклятый Наполеон! Мало ему, что ли, его славы? Новых побед захотелось ненавистному корсиканцу… А тут умирай из-за него от усталости… Есть не хочется, веришь ли? Я со вчерашнего дня ничего не ел.
– Да и мне тоже. Это от бессонницы, – говорит Надя и вдруг разом умолкает.
Что-то тяжелое грохнуло и разлетелось неподалеку как будто на тысячу кусков… Вот еще и еще раз… Туманная даль поминутно прорезывается какими-то огненными шариками, выскакивающими в одно мгновенье ока…
Где-то совсем недалеко в стороне леса, который темным пятном вырисовался на общем сером фоне, чудится какое-то движение… Там туман как будто бы сгустился и принял черноватый оттенок.
Весь полк, как один человек, остановился как вкопанный. В сером тумане особенно отчетливо пронесся сильный голос Каховского, произнесший слова команды.
Последний, 6-й эскадрон только что вышел из реки.
Ряды полка разомкнулись и снова сомкнулись, сделав поворот направо и став флангом к той стороне, откуда гремели выстрелы.
Мимо Нади, повернувшей за остальными своего коня, пронесся полковой адъютант и, приложив руку к козырьку кепи, почтительно доложил что-то вполголоса ротмистру Галлеру. Надя успела уловить одно: приказано повернуть к Гутштадту и занять позиции вблизи местечка.
– Юзеф, ты слышишь? Там неприятель, сегодня будет дело! – произнесла она шепотом, и рука, державшая повод, дрогнула от сильного волнения.
– Ах, не все ли равно, сегодня или завтра! – слабым голосом отозвался Вышмирский. – Когда-нибудь да должно же начаться. Чем скорее, тем лучше. Рано или поздно, а умирать придется; все же лучше от пули, нежели от усталости!
– Стыдись, Вышмирский, ты рассуждаешь, как девчонка! – произнесла раздраженным голосом Надя.
– Может быть, – покорно согласился тот, – я не отрицаю; во мне нет призвания к войне, как у тебя, и потому было бы странно ждать от меня каких-то доблестей. Во всяком случае, без нужды я не полезу под пулю. И потом, что за радость гибнуть теперь, когда чувствуешь себя таким молодым и здоровым! Ах, Саша, если бы не страх покрыть позором весь род Вышмирских, Канутов, то я бы охотно повернул назад, в Россию, где меня ждут и любят!.. Что за охота убивать друг друга, когда жизнь так хороша, так прекрасна! О, проклятый Наполеон и негодная Пруссия, не нашедшая в себе достаточно силы справиться с ним!
Надя слушала его как во сне. Взоры девушки были прикованы к лесу. Туман заметно рассеялся, и теперь уже можно было разглядеть движущиеся массы неприятеля, занявшие опушку. Сердце Нади усиленно забилось. Вот оно, то славное начало, о котором она так мечтала всю свою жизнь. И ни трепета, ни страха не ощущала в своей душе девушка. Напротив, вся ее усталость почти разом соскользнула с нее, бледное лицо покрылось краской, потухшее было пламя снова засверкало в глазах.
– Орудия вперед! – послышалась новая команда уже чужого, незнакомого голоса, и коннопольцы, мерно развернувшись, стали тылом, уступая место артиллерии, находившейся пока позади, под прикрытием их полка. Теперь, пока, им нечего было делать, и они стали «вольно», в тылу артиллерии. Люди спешились, мундштучили и оправляли коней.