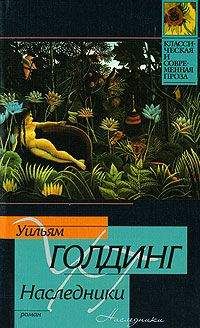зеленом бугорке. Оттуда провожала солдата взглядом. Солдат оборачивался, каждый раз видел на зеленом бугорке серый комочек с белым пятнышком.
…Войска, в которых был батальон Василия Плотникова, наступали очень хорошо, гнали и гнали фашистов. Письмо из дома он получил, когда от Яблонцев ушли на целые полтысячи километров.
В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, дороги раскисли. На проселках, увязнув по самые оси в грязи, стояли военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. В солдатской кухне повар каждый день варил только суп из сухарей: в горячую воду сыпал сухарные крошки и заправлял солью.
В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашел мешок овсянки. Он не искал ничего, просто привалился плечом к стенке траншеи. Глыба сырого песка обвалилась, и все увидели в ямке край зеленого вещевого мешка.
— Ну и находка! — обрадовались солдаты. — Будет пир горой… Кашу сварим!
Один побежал с ведром за водой, другие стали искать дрова, а третьи уже приготовили ложки.
Но когда удалось раздуть огонь и он уже бился в дно ведра, в траншею спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий. Брови над голубыми глазами тоже рыжие. Шинель выношенная, короткая. На ногах обмотки и растоптанные башмаки.
— Эй, братва! — крикнул он сиплым, простуженным голосом. — Давай мешок сюда! Не клали — не берите.
Он всех просто огорошил своим появлением, и мешок ему отдали сразу.
Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые мешки прятали в траншеях солдаты, когда шли в атаку. Чтобы легче было. Конечно, оставались мешки и без хозяина: или нельзя было вернуться за ними (это если атака удавалась и надо было гнать фашистов), или погибал солдат. Но раз хозяин пришел, разговор короткий — отдать.
Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный мешок. Только Лукашук не выдержал, съязвил:
— Вон он какой тощий! Это ему дополнительный паек дали. Пусть лопает. Если не разорвется, может, потолстеет.
Наступили холода. Выпал снег. Земля смерзлась, стала твердой. Подвоз наладился. Повар варил в кухне на колесах щи с мясом, гороховый суп с ветчиной. О рыжем солдате и его овсянке все забыли.
Готовилось большое наступление.
По скрытым лесным дорогам, по оврагам шли длинные вереницы пехотных батальонов. Тягачи по ночам тащили к передовой пушки, двигались танки.
Готовился к наступлению и Лукашук с товарищами. Было еще темно, когда пушки открыли стрельбу. Посветлело — в небе загудели самолеты.
Они бросали бомбы на фашистские блиндажи, стреляли из пулеметов по вражеским траншеям.
Самолеты улетели. Тогда загромыхали танки. За ними бросились в атаку пехотинцы. Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он кинул гранату в немецкую траншею, хотел кинуть еще, но не успел: пуля попала ему в грудь. И он упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что снег холодный. Прошло какое-то время, и он перестал слышать грохот боя. Потом свет перестал видеть, — ему казалось, что наступила темная тихая ночь.
Когда Лукашук пришел в сознание, он увидел санитара. Санитар перевязал рану, положил Лукашука в лодочку — такие фанерные саночки. Саночки заскользили, заколыхались по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука стала кружиться голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась, — он хотел вспомнить, где видел этого санитара, рыжего и худого, в выношенной шинели.
— Держись, браток! Не робей — жить будешь!.. — слышал он слова санитара.
Чудилось Лукашуку, что он давно знает этот голос. Но где и когда слышал его раньше, вспомнить уже не мог.
В сознание Лукашук снова пришел, когда его перекладывали из лодочки на носилки, чтобы отнести в большую палатку под соснами: тут, в лесу, военный доктор вытаскивал у раненых пули и осколки.
Лежа на носилках, Лукашук увидел саночки-лодку, на которых его везли до госпиталя. К саночкам ременными постромками были привязаны три собаки. Они лежали в снегу. На шерсти намерзли сосульки. Морды обросли инеем, глаза у собак были полузакрыты.
К собакам подошел санитар. В руках у него была каска, полная овсяной болтушки. От нее валил пар. Санитар воткнул каску в снег постудить — собакам вредно горячее. Санитар был худой и рыжий. И тут Лукашук вспомнил, где видел его. Это же он тогда спрыгнул в траншею и забрал у них мешок овсянки.
Лукашук одними губами улыбнулся санитару и, кашляя и задыхаясь, проговорил:
— А ты, Рыжий, так и не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а все худой.
Санитар тоже улыбнулся и, погладив ближнюю собаку, ответил:
— Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. Как увидал в снегу, так и узнал… — И добавил убежденно: — Жить будешь! Не робей!
Валентина Александровна Осеева
Кочерыжка
Люди возвращались. На маленькой голубой станции, уцелевшей от бомбежек, беспорядочно и суетливо выгружались из вагонов женщины и дети с узлами и авоськами. По обеим сторонам дороги заколоченные домики, глубоко зарывшись в сугробы, ждали своих хозяев. То там то сям вспыхивали в окнах светлячки коптилок, из труб поднимался дым. Дольше всех пустовал домик Марьи Власьевны Самохиной. Забор ее повалился, и только кое-где стояли еще крепко сбитые колья. Над калиткой торчала вверх и билась на ветру сломанная доска. В морозные зимние ночи, проваливаясь в снег, к запушенному крыльцу брел голодный пес, похожий на затравленного волка. Он обходил дом, прислушиваясь к тишине, царившей за большими окнами, тянул носом воздух и, бессильно волоча длинный хвост, укладывался на снежном крыльце. А когда луна бросала на пустой дом светлые желтые круги, пес поднимал морду и выл.
Вой будоражил соседей. Измученные, настрадавшиеся люди, зарываясь головой в подушки, грозились заткнуть эту голодную глотку дубиной. Может быть, и нашелся бы человек, решившийся поднять дубину на поджарое собачье тело, но пес, как бы зная это, остерегался людей, и утром на снегу оставались только следы, тянувшиеся неровной цепочкой вокруг брошенного дома. И лишь один маленький человечек из домика напротив каждый вечер за старым обвалившимся погребом ожидал голодного пса. В растоптанных валенках и старой серой шинельке он тихонько вылезал на крыльцо и смотрел, как в сумерках белеет снег. Потом, прижимаясь к стене, круто заворачивал за угол дома и шел к погребу. Там, присев на корточки, он делал в снегу