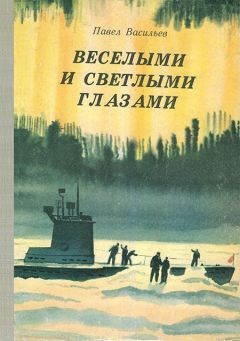Она хорошо, даже прекрасно понимала их. Но одно дело — понимать, а другое — выстоять, когда свистят, орут, хохочут тебе в лицо.
Она не могла себе позволить крикнуть им: «Замолчите! Я такая же блокадница, как вы!..» Она не могла так поступить, интуитивно понимала, что не имеет на это права, не должна. Может быть, это изменило бы их отношение к ней, скорее всего, что изменило бы, но все остальное осталось бы.
Так что же делать? Как поступать? Что дальше?
«Только не надо плакать, — идя домой, уговаривала она себя. — Чтобы не видела мама и не спрашивала, что со мной. Она и так больна. К тому же эта бумага!.. Страшная бумага!.. Это все вместе убьет ее! Поэтому надо как-то держаться. А не можешь, считай: раз, два, три… Говорят, это помогает…»
Но ужасно хотелось плакать ей и на следующее утро, когда она собиралась идти в школу. Как она боялась! Как у нее дрожало все внутри!.. Она стояла в ванной, прижавшись затылком к холодной стене и тихонько шептала, закрыв глаза: «Два, четыре, пять…»
— Лизонька, тебе пора идти!
— Я иду, иду, мама!.. Два, четыре, пять…
Филька сидел на первой парте возле учительского стола, он-то и подметил эту странную, показавшуюся ему очень подозрительной особенность.
В этот день у них немецкий был третьим уроком, перед большой переменой. «Немка» точно со звонком вошла в класс. Лицо ее было напряженным, и вся она будто спортсмен, готовящийся к решающему прыжку и уговаривающий себя не волноваться. Своим четким шагом она прошла к столу, положила на него гулко цокнувший тяжелый портфель и громко произнесла свое неизменное: «Гутен таг, киндер!» Никто ей опять не ответил и не поднялся. Многие продолжали разговаривать, другие прохаживались между рядов, толкались. Тогда она, вроде бы вовсе и не замечая ничего этого, раскрыла классный журнал и стала проверять присутствующих.
— Комрад Корсавин?.. Здесь, — начала она почему-то с середины списка и не в алфавитном порядке, как это делали обычно все преподаватели, а называя так, как сидели ребята по рядам. Вот это-то и насторожило Фильку.
Она с чем-то сверялась в журнале, называла фамилию, затем только поднимала голову и смотрела, кто этот названный и здесь ли он сегодня.
— Комрад Яковлев!.. Так… Комрад Трофимов?..
Привстав на локти, вытянув шею, весь подавшись вперед, Филька заглянул в журнал. И увидел лежащий в нем тетрадный листок, на котором было начерчено расположение парт в классе с указанием, кто и где сидит. «Вот это да!» — удивился Филька. И почерк был не ее, не «немки», и чернила другие. Филька заерзал, завозился на парте, прикидывая, что бы это значило, он обернулся, чтобы сообщить о подмеченном сидящему позади Травке, но в это время «немка» уже начала вызывать.
— В позапрошлый раз вам на дом было задано выучить стихотворение. Страница тридцать два. Дер винтер… Комрад Анохин?
Анохин, как и в прошлый раз, сидевший по-наполеоновски скрестив на груди руки, спокойно сказал:
— Я не выучил.
— Очень плохо! — Она что-то отметила в журнале.
— Наплевать, — сказал Анохин.
— Комрад Тимирханов?
— Не выучил, — поднялся Филька, воспользовавшись этим, чтобы еще раз заглянуть в журнал.
— Что, совсем не выучили? — с какой-то еще робкой надеждой спросила она.
— Да.
— Но хоть учили?
— Нет, — честно признался Филька.
— Садитесь, плохо, — уже резко, с раздражением велела она.
— И я не выучил, — с вызывающей ухмылкой поднялся Баторин, хотя его и не вызывали. Он улыбнулся, подмигнул сидящим позади, и тотчас все задвигались, зашушукались.
— А кто выучил?.. — Она быстро осмотрела класс. — Неужели никто? — Зачем-то быстро полистала журнал, не замечая, что это делает, разгладила завернувшуюся страницу и робко позвала:
— Комрад Соколов… Вы…
— Комрад Соколов! Комрад Соколов, давай! — завозились мальчишки.
Соколов не хотел вставать. Он покраснел так, что уши его стали пунцовыми, и, потупясь, нахмурив брови, очень медленно, неохотно поднялся.
— Не выучил, — буркнул он.
— Как?! — почти воскликнула «немка», почему-то тоже начав краснеть. Растерянно смотрела на Соколова. — Вы же учили…
— Забыл.
— Соколов!.. Я прошу вас!.. Отвечайте.
— Я забыл.
Он стоял, опустив голову, как-то странно выпятив свои толстые губы.
И она, не выдержав, вспылила.
— Отвечайте, Соколов! — гневно крикнула она. — Не валяйте дурака! Вы все прекрасно помните!
— А я не хочу, — впервые взглянул на нее Аристид, — я же говорил, я не буду учить «фашистский» и не буду отвечать.
— Правильно! — закричали все разом, вскочив, захлопали крышками. — Верно! Долой ее! Долой!
И она села, будто у нее подкосились ноги. Аристид все еще продолжал стоять, вприщур глядя на нее. Она села, положив руки перед собой.
Не скрестив, а обессиленно вытянув их.
— Послушайте, — сказала она каким-то незнакомым тихим голосом. — Конечно, я вас могла бы заставить заниматься… Могла нажаловаться директору, наставить «колов», вызвать ваших родителей, еще что-нибудь… Но я не хочу! Нет!..
Не потому, что я очень хочу вас выучить немецкому языку, который, может быть, вам вовсе никогда и не понадобится. Нет! Произносить несколько слов можно выучить даже попугая или скворца. Не в этом главное!
А главное — быть человеком. Несмотря ни на какие лишения, горе, обиды, ни на какие обстоятельства не утратить человечности, не растерять доброты. И это — самое главное, без чего невозможно жить на земле. Этому я должна научить вас, в первую очередь. А только вот не знаю, как.
Я училась методике преподавания, умею составить программу, доходчиво донести материал. То есть всему, что требовалось в довоенной школе. А здесь — вы.
Но мне хочется надеяться, что я справлюсь. Что вы поймете, что нет «фашистского» языка, а есть немецкий. Язык не какой-то отдельной горсточки жутких злодеев, а язык всего большого и интересного народа. А поэтому я не уйду сегодня из класса. Слышите, не уйду!
Садитесь, Соколов, что же вы стоите.
В классе стало тихо. Какая-то странная, напряженная, недоверчивая тишина. Аристид сидел, крепко сжав кулаки. Валька почему-то не решался к нему обратиться. «Немка», низко склонившись, что-то записывала в журнале. Лицо ее было бледным, а по нему, словно крапивные ожоги, проступили крупные розовые пятна.
И вот в этой настороженной ломкой тишине вдруг послышался странный звук. Это под своей партой пел Хрусталь. Сидел и мурлыкал себе тихонько.
— Хрусталев, — не поднимая головы, позвала она. — Подойдите, пожалуйста, сюда. — Чувствовалось, как ей трудно сдерживать себя, казаться спокойной.
Хрусталев вылез из-под парты.
— Садитесь, — предложила она и рядом с ним села на свободную парту. Это несколько озадачило Хрусталя. — Что вы там пели?
— Ничего.
— Но я же слышала, вы там пели, что? Говорите, не стесняйтесь. Что-то вы все-таки пели? Ну, что вы испугались?
— А я и не испугался!.. «Землянка», — с вызовом ответил Хрусталь.
— Ну что ж, прекрасная песня. Мне она тоже очень нравится. Давайте споем… — предложила она. Предложила спокойно. — Вы, ребята, пока учите стихотворение, а мы с Хрусталевым споем. Начинайте, Хрусталев, а я подтяну.
Хрусталь недоуменно оглянулся, у всех мальчишек вытянулись шеи. А она продолжала на полном серьезе.
— Что же вы? Не стесняйтесь. Давайте, давайте. Ну, начали.
Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза…
Ну что же вы не поете, поддерживайте, подтягивайте.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
Что же вы? — как бы удивившись, спросила она.
— Я… Не хочу.
— Не хотите? Уже напелись?.. А тогда садитесь и занимайтесь.
Мальчишки переглядывались. Хрусталев еще стоял возле стола. В дверь, не постучав, заглянула Малявка.
— Простите, — сказала она, явно стушевавшись. — Я проходила мимо… Мне показалось… Пожалуйста, занимайтесь!.. — По-видимому, она слышала пение. А именно, как пела «немка». Потому что она еще раз повторила: — Простите.
При ее появлении весь класс встал. А «немка» покраснела до корней волос.
— Мы занимались, — пролепетала она.
— Садитесь, — кивнула Малявка. — Я всего на одну минутку. Посижу и сейчас уйду. Продолжайте заниматься, будто меня здесь и нет.
Она присела рядом с Филькой, чуть потеснив его. Такое соседство Фильку обескуражило, он хотел отодвинуться подальше, но тотчас угадав его намерение, Малявка поймала за руку и придержала. Она сидела прямо, глядя перед собой и этим как бы указывая Фильке, что и он должен сидеть так же.
«Немка» уже успела взять себя в руки. Серьезная, собранная, она окинула взором присутствующих и сказала: