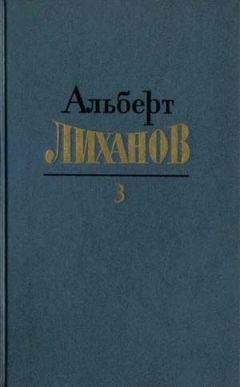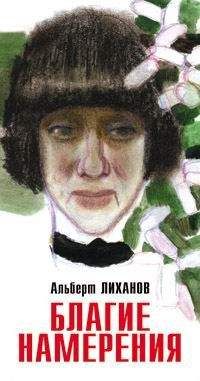Тут она лгала, я поняла это. Зачем-то лгала.
Саша немножко поревновал, скорей в шутку, для разнообразия, чем на самом деле, запретил Ирине брать в Москву красный костюм, она, посмеявшись, согласилась и убыла, а когда вернулась, у них с сыном возникла тайна от меня, и Саша проговорился об этом только два года спустя, в день отъезда.
Заметила ли я хоть какие-то признаки этой тайны? Нет. Ведь мы жили в разных домах и многое теперь ускользало от меня.
А она затеяла обмен. Поездка в Москву требовалась ей, чтобы дать в бюллетень нужное объявление. Двухкомнатную здесь на однокомнатную в Москве, три человека. Кроме Саши, с которого взяли страшную клятву, не знал никто ничего. К тому же на Сашку навалилась новая стихия - женская лесть: с твоими руками, да в столице ты взлетишь - ого-го! - на какую вершину. Дальше только наддай пару. Ирина выучилась отлично обходиться с мужем. Вызнав его характер, ни разу не поругавшись, не споря по пустякам, она управляла всеми его поступками с одной лишь помощью женской хитрости.
Сначала это скрывалось от меня. Но ближе к новой победе Ирина приоткрылась - побеждала самоуверенность.
- Наш Санечка, дорогая Софья Сергеевна, - говорила она при нем, просто Эдисон, помните, тот волосок из собственной бороды выдернул, вставил в лампочку, и она загорелась.
Признаться откровенно, я не слыхала таких подробностей, удивленно хмыкала, но сын был готов - расплывался в самой ротозейской улыбке, восхищался собой, действительно чувствовал себя Эдисоном.
Так что после нескольких открытых уроков лести я поняла: Ирочка и здесь достигла блистательных результатов. Саша мечтал о белом коне, на котором он вместе с подругой победителем въедет в златоглавую. Забор, выстроенный из лести и честолюбия, охранял семейную тайну от лишних глаз, цементировал молодых - скачок в Москву предстояло совершать вдвоем, а среди лишних глаз были теперь не только мои, но и геройские, депутатские, докторские. Лесенка использована, квартира получена, можно оттолкнуть ее в сторону, чтоб не мешалась. Так что цена Ирининых восторгов благородным директором оказалась вполне призрачной: вы мне нужны для определенной цели.
Опять я забегаю вперед!
Пока Ирина выплетала свои кружева, я наслаждалась внуком.
К той поре, когда Игоря отняли у меня, он стал обаятельным лохматым карапузом, невероятно живым, любознательным, смешливым, шаловливым настоящий Везувий! Я баловала его, бывшая комната молодых в моей квартире стала его полновластным владением и походила на игрушечный магазин: диван, пол, даже шифоньер были уставлены заводными машинами, медведями, мячами. Мне, грешным делом, казалось, что Игорек любит меня крепче, чем родителей, - там обязанности, взрослые заняты, а у меня, в те часы, когда мы бывали вместе, Игорек не отходил от бабки, а бабка от него. Мы обсуждали разные разности из жизни людей, зверей и машин, я, пользуясь книжными связями, составила настоящую библиотеку, и мы вслух штудировали малышовую классику.
В уголке, между батареей отопления и стенкой, я приспособила детский стульчик и кусок медвежьей шкуры, чудом сохранившейся еще от моего детства. Я усаживала Игорька на стул, сама устраивалась рядом, на шкуре, и мы принимались сочинять биографию бедного Мишки, Как он родился и сперва ничего не понимал, как потом научился ходить и даже плавать, как мама выучила есть ягоду малину прямо с куста, а папа слизывать муравьев. Потом в наших фантазиях Мишка становился взрослым, непослушным сыном, убегал от мамы с папой, и ему нравилась такая беспечная жизнь - можно поваляться среди зеленой поляны на жарком солнышке, сладко почесать сытое брюхо, но вот не было у него друзей, так что когда повалил снег и пришла пора залезать в берлогу, Мишка остался один-одинешенек, лег под дерево, пососал лапу и заплакал от одиночества. Он проснулся от того, что прямо над ухом лаяли собаки, Мишке не понравилось такое нахальство, он выбрался из берлоги, и тут охотник убил его...
Мой Игорек горько заплакал, услышав впервые такую сказку, ему хотелось, чтоб Мишка остался живой, но потом смирился и гладил остаток шкуры, жалея зверя. Я хотела, чтобы он понял, как нехорошо оставаться без родителей и товарищей, а он услышал совсем другое: одиночество. Игорек просил:
- Расскажи, как грустный Мишка сосет лапу.
Слушая, задумывался и прибавлял печальные подробности своими вопросами.
- Он когда спать лег, подушки не было?
- Нет.
Игорек надолго умолкал или принимался за другие дела, катал, скажем, машинку и вдруг опять спрашивал:
- Поговорить ему было не с кем?
- Ты о ком?
- О Мишке.
Мне казалось, Игорь улавливал тончайшие оттенки чувств. Он часто прислушивался, причем не к звукам, а к тишине, звуки меньше всего волновали его, зато тишина... Наверное, она казалась ему таинством, волшебным состоянием мира, понять которое важнее, чем определенные и ясные звуки.
Порой у меня было такое ощущение, что Игорь приблизился к какому-то тайному краю, стоит в метре от него, но дальше подступить не решается и приподнялся на цыпочки, чтоб заглянуть поглубже.
Что он там разглядывал внизу, какие видимые лишь ему глубины?
Еще он был фантазер. Однажды приходит и говорит почему-то:
- Добрый вецер!
- Ты хочешь сказать, вечер?
- Вечер будет позже. А пока вецер!
Ясное дело, детский мир - таинство, недоступное взрослому, и хотя каждый взрослый был ребенком - то ли оттого, что время быстро летит, то ли память человеческая непрочна и быстро забывает путаные закоулки маленькой души, - как далеко порой разбредаемся мы друг от друга, близкие дети и близкие взрослые!
Я вспоминала Сашу. И ужасалась! Ведь он был точно таким же тогда! И заболел неопределенной горячкой. Значит, чувствовал!
Как же можно глупо повторять: несмышленыш, несмышленыш, если несмышленыш, не зная ничего, совершенно осознанно чувствует всем своим маленьким существом пришедшую к нему беду.
Пробегая назад сквозь годы, я захлебывалась от подступавшей тоски, спрашивала, тысячу раз восклицая: ну а сделала ты все, что надо, сделала? Сделала? И стал тот маленький Саша, такой непохожий на своего трехлетнего сына, тем, кем должен стать? Исполнила свою же собственную клятву? Или лишь половину ее? А может, и той нет? Металась между домом и работой, экономила рублевки, рвалась между приличной нуждой и откровенной бедностью, купала Алю, а все ли делала для его души! Для того чтобы укрепить эту душу к трудной взрослой жизни!
Нет.
Все сделать выше моей власти, жизнь съедал быт, забота о насущном, ясно, дальше можно не продолжать, одним словом, одним звуком сказано все, - нет.
Я мчалась назад сквозь время, хватала в охапку Игорька, прижимала к себе легкую частицу живой плоти, такой похожей и совершенно непохожей на Сашу; сжимала его в объятиях, затихала, готовая все, что было в душе, остатки любви своей влить Игорю, внуку. То, что не сумела отдать Саше.
Но тщетно! Я рыдала, забившись в свой медвежий угол, когда не было, конечно, Марии и только два существа - Алечка да Игорь - оставались со мною. Я плакала от бессилия. От долга, исполненного, но не там, не до конца и вовсе иначе, чем следовало исполнить.
Потом приходила в себя, успокаивалась. Время возвращало меня к Алечке, ее бессознательным, невнятным звукам из соседней комнаты и к Игорьку, моему огоньку.
Он стоял передо мной на цыпочках и точно заглядывал за край моей души: какая там бездна?
Трехлетие Игоря семья сына отметила активными, но тайными перемещениями.
Сначала, снова в командировку, улетела Ирина. Маршрут тот же. Затем она взяла Очередной отпуск и опять отбыла в Москву, пробыв там недели три. Потом столицу посетил Саша.
Из поездок они возвращались отчего-то напряженные, молчаливые, и требовалось еще какое-то время, чтобы жизнь вошла в привычное русло. Командировки командировками, тут долго объяснять не требовалось, но поездка Ирины в отпуск меня насторожила. Саша мне говорил: "Она устала, хочет рассеяться", - но я не верила этому. Ирина что-то затевала, ее глаза опять светлели, когда она задумывалась.
Сын пытался успокоить меня, но сам не был спокоен. Что-то мучило его, и, пожалуй, я могла бы добиться истины, особенно в последние дни Ириного отсутствия, когда он тосковал, тревожился, не знал, что думать, - ни единого звонка, ни трехсловной открытки.
Нет, это было выше меня - использовать слабость сына, которую я же и воспитала. Ведь привязчивость - обратная сторона приспособляемости, одного без другого, пожалуй, нет.
Я ни о чем его не спросила. Больше: когда он искал мои глаза, чтобы заговорить первым, я отворачивалась. Не хочу знать, это твое дело, и если ты не решишь сам, никто другой за тебя не решит. Действуй, ты мужчина.
Но тотчас наворачивались слезы, я думала про раскаяние, долг перед Сашей, исполненный не так, как следовало, и мне становилось худо, жалость душила меня, немного - я кинусь к взрослому человеку, прижимая его, как ребенка. Но нет, это и был бы долг, исполненный, как не надо.