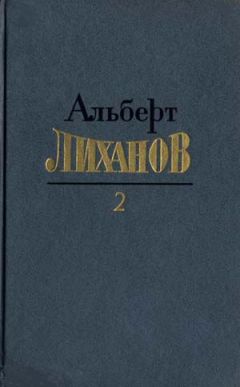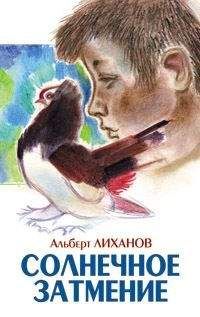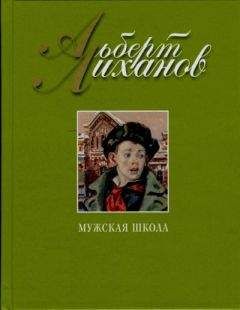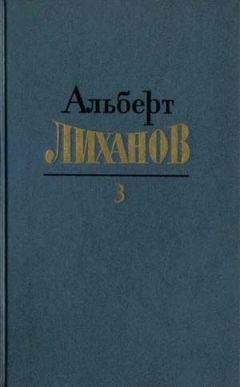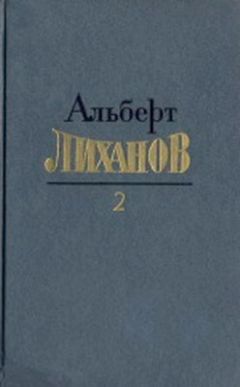— Конечно! — говорит Сережа. — По-твоему, мы чаем с пирожными отмечать свои праздники должны? Сами пьете, а мы что — хуже вас? — Он задирает дядю Ваню. — Сам-то шею как сломал? А?
Дядя Ваня молчит, сжимает и разжимает кулаки, нервничает.
— Ишь въедливый какой! — сердится он. — Дети должны быть лучше родителей. Такое даже выражение есть, черт бы тебя побрал!
— Вот-вот, — отвечает Сережа, — дети — должны. А взрослые — не должны.
Дядя Ваня не согласен с Сережей, но ему не хватает слов, что ли. Доказательств.
— Пойми ты! — восклицает он. — У взрослых жизнь труднее, вот, например, я…
Он умолкает. Сережа приготовился смеяться — раз про себя, значит, смешное. Ему кажется, у дяди Вани вся жизнь очень забавная, одни нелепые происшествия, как тогда — из окна в клумбу свалился.
— Ну слушай, раз так, — говорит дядя Ваня, а морщины на его лице делаются глубже. — Никому не говорил, даже жена не знает, поэтому молчи, будь мужиком. Вот эта жена, которую ты знаешь — говорит дядя Ваня, — у меня вторая. На первой, на Нюре, женился я до войны, молодым, совсем мальчонкой. И было двое детей у нас — две дочки. Вот. А потом война началась. Мы в Орле жили. Я ушел на фронт, сразу же попал в окружение, когда вышел, написал домой. Ответа нет. Пишу соседям, мало ли, думаю, эвакуировались куда, а назад получаю известие. — Дядя Ваня закуривает, и Сережа видит, как мелко вздрагивают у него руки. Дядя Ванина тревога незаметно передается и ему, он уже не смеется, не ждет забавного, а слушает внимательно, напряженно. — Получаю известие, — повторяет дядя Ваня, и голос его хрипнет, — что бомба, в общем — прямое попадание в щель, где они прятались. Детей сразу, на месте, жена умерла в больнице. Незадолго, пишут, перед тем получила обо мне извещение — пропал без вести.
Дядя Ваня вздыхает, долго молчит. Пускает через нос дым, окутывается табачным облаком.
— Ну вот, — говорит, затаптывая папиросу. — Вышел я из войны, помотался по белу свету. Долго плутал, никак своего найти не мог. Потом вот Асю встретил, поженились, детишек родили, все вроде как заросло — не то еще зарастает. А в прошлом году весной поехал я на юг, в санаторий, по профсоюзной путевочке. Иду как-то утречком по берегу, любуюсь прибоем и вдруг, представляешь, вижу — идет навстречу мне Нюра. Седая, правда, старая, как я, но Нюра… Остановились мы друг против друга, потом навстречу бросились! — Дядя Ваня вздыхает, трет лоб, не знает, куда руки деть, пальцы сгибает и разгибает. — Вишь, как выходит. И радоваться вроде надо. А вроде и плакать. Нюра в госпитале тогда не померла, хотя плоха была, — ее эвакуировали. Ожила, после войны замуж вышла: считала меня погибшим. Тоже дети есть, семья… Вот и посоветуй, — оборачивается к Сереже дядя Ваня, — как быть? И любим-то мы с ней друг дружку по-старому. Может, и крепче еще. И семьи наши новые ломать права не имеем.
— Почему? — спрашивает Сережа. — Ведь встретили же! Все слава богу!
— Почему? — переспрашивает дядя Ваня и горько усмехается. — А потому. Из-за детей.
Из-за детей! Сережа сжимает шершавый дяди Ванин кулак, благодарность теплой волной захлестывает его. Благодарность и горе.
— Оттого и пил я, — говорит дядя Ваня. — Через это и с подоконника упал, черт бы меня побрал.
Теперь этот случай не кажется больше смешным. Сережа разглядывает в темноте дяди Ванино лицо.
— А вот мой, — говорит Сережа, кусая губы, — обо мне не думал.
— Живой он у тебя, настоящий-то? — спрашивает дядя Ваня.
— Живой, — отвечает Сережа.
— Эх, дела! — говорит дядя Ваня. — Но ты, того, не хнычь, не распускайся. Волю свою держи. Бывает, что надо переступить себя.
— Переступить! — восклицает Сережа и повторяет задумавшись: — Переступить…
Дядя Ваня переступил для детей, это ясно, для своих детей. Сережа, коли надо, десять раз себя переступит. Ну а сейчас-то? Через что переступать? Почему? Зачем?
Сережа шагает домой и думает о дяде Ване. Тот сказал ему на прощанье несколько слов, и эти слова только теперь доходят до Сережи. Он сказал, что у той Нюры, первой своей жены, не спросил даже адреса. И новой фамилии. Чтобы не было никакого пути назад.
— Пусть будет, как было, — сказал он ей, и она согласилась.
Сережа вздрагивает. Это кажется невероятным! Живые люди считают себя мертвыми!
Он вспоминает ребят дяди Вани: а ведь правда, они не виноваты! Но и это еще не все. Можно невиноватых виноватыми сделать. Важно — думать, важно — беречь, важно себя для других не жалеть, вот что.
Сережа невольно думает про Авдеева. Это не имеет значения, что случилось у них с мамой. Почему он бросил их. Важно — бросил. Не захотел подумать, уберечь, важно, что себя пожалел.
А может, не так? Может, все по-другому?
Может, это мама бросила его?
Но это все равно. Мама бы не ушла просто так. Просто так ничего не бывает. И теперь вот он, Сережа, должен думать о нем.
Зачем? Зачем он взялся из этой маминой тайны? Зачем он убил того, Сережиного отца, — пусть с разными лицами, но хорошего, доброго, несчастливого?
Сережу знобит от бескрайней обиды. Он с ненавистью сжимает зубы. И вдруг бежит.
Он бежит не домой — к Авдееву.
Сережина тень то обгоняет его, то на мгновенье отстает. Фонари бросают блики на его вспотевшее, влажное лицо. Голова кружится.
Уже темно, в окнах гаснет свет.
Сережа врывается во двор, где живет папаша, и орет во все горло:
— Авдеев! Авдеев!
Вспыхивает свет в окнах на третьем этаже. Кто-то в майке выходит на балкон.
— Кто там? — хрипло говорит человек.
— Зачем ты явился? Кто тебя просил? — кричит Сережа.
— Не делай глупостей, Сережа! — отвечает тень на балконе.
Сережа стремительно наклоняется, подхватывает с земли камень и швыряет в авдеевское окно.
Раздается грохот.
— Есть! — шепчет себе Сережа и поднимает еще камень.
Снова звенит стекло.
— На! — кричит Сережа. — На, гад! Получай!
В соседних окнах загораются огни. На балконы выбегают люди, словно поглядеть на пожар, что-то кричат, но Сереже все равно — что…
Бабушка стоит посреди комнаты босиком, в длинной белой рубахе — настоящее привидение. Косички дрожат у нее на плечах — она плачет, но в руке держит ремень.
— По ночам шляешься! — говорит бабушка, стараясь быть грозной.
Сережа обнимает ее, целует, поднатужившись, отрывает от пола.
— Господи! — плачет бабушка. — И пьяный! — Но Сережа лезет в карман, поднимает над головой несколько цветных бумажек — свою зарплату.
Слезы у бабушки просыхают.
— Не знаю, об чем и думать, — говорит она. — Куда бежать — то ли в морг, то ли в милицию?
Она накидывает халатик, приносит Сереже молоко, хлеб, колбасу.
Сережа жадно ест. Потом ложится на раскладушку, разглядывает цветочки на дешевеньких обоях, которыми бабушка оклеила комнатку. Как у Пушкина, думает он: «Воротился старик, — глядь — стоит прежняя избушка, на пороге сидит его старуха, перед ней разбитое корыто…» Много захотел очень, издевается он над собой, проваливаясь в сон. Сыном стать… Брата или сестру…
Он просыпается от толчков. Ничего не понимая, открывает глаза. Бабушка трясет его за плечо.
— За тобой пришли! — плачет она. — Что наделал-то?
Он встает, подходит в трусах к столу.
Возле двери — молоденький милиционер. За ним — Авдеев и какая-то женщина.
— А! — говорит Сережа, не удивляясь. — Здрасьте-пожалте, гости добрые!
— Он еще и острит! — говорит милиционер. Во все щеки у него румянец. Будто отлежал. Но слова говорит серьезные: — Давай-ка одевайся!
Сережа натягивает штаны, причесывается, целует бабушку в щеку и говорит ей:
— Ты не волнуйся! Спи! Я просто папаше окна выставил!
— Окна ты выставил не папаше, — говорит милиционер, присаживаясь, — а совсем другим людям.
Другим людям! В Сереже что-то обрывается. Какая глупость! Почему — другим?
Сережа молчит, растерянно глядит на бабушку и клянет себя. Ведь это из-за него растянула она толстые губы, как девчонка, плачет без удержу, надевает при всех платье. Он прикрывает ее собой, говорит посторонним:
— Отвернитесь, чего уставились? — А сам думает: «Дурак проклятый, чего натворил!»
— Товарищ сержант, — говорит Авдеев, — но мы же уже договорились с Клавдией Петровной, — он глядит на кивающую женщину, — полюбовно, так сказать, миром, я все оплачу, и к мальчику у нас больше нет претензий…
— У вас к нему нет, а у меня есть, — отвечает милиционер, — я, если хотите знать, о вашем же сыне беспокоюсь, хоть вы и порознь живете. Сегодня вам окно высадит, а завтра кем он станет?
Милиционер постукивает карандашиком.
— Мы фиксируем, — втолковывает он Авдееву, — все факты хулиганства подростков и, если вот бабуся с ним не справляется, путевочку в колонию выпишем.