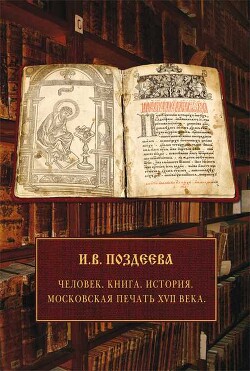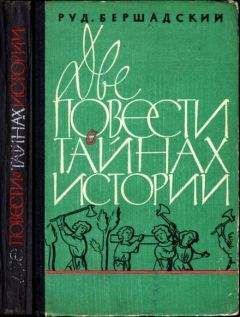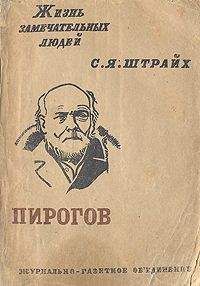То, что «казанские тетрати» напечатаны шрифтом одного из анонимных изданий середины XVI в., – факт достаточно неожиданный, может быть, даже более неожиданный, чем сама деятельность казанской «штанбы». Естественнее было бы ожидать, что здесь будет использован один из более поздних шрифтов, например федоровский или какой-то восходящий к нему, либо совсем новый, как у Онисима Михайловича Родишевского.
Начальный этап московского книгопечатания являет пример неслыханной расточительности в области употребления шрифтов, по сути так до конца и не объясненный, а скорее воспринимаемый уже как данность. За полтора десятилетия деятельности (1553–1568) 11 изданий напечатано семью разными шрифтами, в том числе семь анонимных – пятью. На фоне этой шрифтовой щедрости первых лет особенно бросается в глаза использование четверть века спустя одного из этих шрифтов, ничем особо не примечательного (кроме того, может быть, что напечатанные им издания свыше столетия находились «в розыске»).
Все шрифты анонимных изданий вполне и в равной мере традиционны (в отличие, скажем, от шрифтов издания Скорины) и почти одинаково совершенны в графическом отношении (колебания в их сравнительной эстетической оценке будут отражать скорее исследовательские вкусы и представления, чем мнение первопечатников). Смена их от издания к изданию (тремя шрифтами напечатано по одному изданию: Евангелие узкошрифтное, Триодь постная и Триодь цветная; двумя – по два: Евангелие и Псалтырь среднешрифтные и широкошрифтные) вряд ли вызвана стремлением к совершенству, постоянному улучшению. Во всяком случае, с находкой казанской брошюры можно считать установленным, что переход от одного шрифта к другому не всегда сопровождался уничтожением предыдущего. Но даже если встать на точку зрения постоянного совершенствования шрифтов, все равно трудно понять, зачем два тома одного комплекта (в тематическом и функциональном смысле две части одной книги) – Триодь постную и Триодь цветную – нужно было в одной типографии печатать близкими, но разными шрифтами. Версия разных, хотя и связанных между собой типографий выглядит более предпочтительной [734].
Когда же типография, возвращенная в Москву из Казани в 1620 г., оказалась на волжских берегах? Конечно, соблазнительно было бы предположить, что это случилось уже в 1550-х гг. и печатня с момента возникновения работала в Казани, недаром Иван Федоров в послесловии к Апостолу 1564 г. в качестве одной из причин создания типографии называет потребность «новопросвещенного города» и его епархии в богослужебных книгах [735]. Проще всего, казалось бы, удовлетворить эту потребность, организовав печатание книг прямо на месте.
Ясно, однако, что такое предположение не может быть принято. Хотя графические материалы обеих Триодей имеют наименьшее число примеров взаимодействия с другими анонимными изданиями [736], связь между ними на уровне одного города не подлежит сомнению. В пользу этого говорит хотя бы соседство на одной странице рукописного Евангелия середины XVI в. библиотеки Московской Синодальной типографии (РГАДА. Ф. 381. № 183. Л. 317) [737] плетеного инициала «В» из Триоди цветной и заставки из среднешрифтной Псалтыри.
При таком допущении следовало бы считать, что с Казанью связаны все или значительная часть безвыходных изданий. Это, однако, представляется невозможным в принципе. Книгопечатание было слишком важным предприятием, чтобы верховные московские власти могли оставить его без постоянного наблюдения и контроля (по крайней мере, на первых порах), а контроль легче всего было обеспечить над печатней, находившейся в столице. В этом убеждает и вся позднейшая история типографского дела в Московской Руси. Александровская слобода, где трудился Андроник Тимофеев в 1577 г., недолго являлась столицей Ивана IV, попытка организации типографии в Нижнем Новгороде приходится на Смутное время и вызвана невозможностью работать в разоренной Москве; печатня в Валдайском Иверском монастыре была создана по инициативе «Великого государя» патриарха Никона.
Вероятнее всего, «штанба» была перевезена в Казань во второй половине 1560-х гг. Однако о наличии в городе печатного двора ничего не сообщает писцовая книга 1566–1568 гг., при том что церковное и хозяйственное имущество архиерейского дома и кремлевского Спасо-Преображенского монастыря, где, скорее всего, могла бы располагаться печатня, описаны достаточно подробно [738]. Нет сведений о типографии и в писцовой книге 1565–1567 гг. соседнего с Казанью Свияжска [739], официально являвшегося вторым центром новосозданной епархии [740]. Едва ли столь важное дело, как типография, могло быть начато в Казанской епархии где-либо, кроме этих двух мест. Тому факту, что среди жителей обоих городов книгопечатники не упомянуты, не следует придавать особого значения, поскольку печатниками могли быть священно– или церковнослужители, именно так и указанные в писцовых книгах.
В то же время нет, кажется, оснований отодвигать переезд типографии из Москвы в Казань на много лет от времени составления писцовых книг, приурочивая его, например, к моменту возведения местной епархии в ранг митрополии (1589). Если бы типографское оборудование анонимной печатни продолжало оставаться в Москве, ничто не мешало бы использовать его при устройстве в марте 1568 г. типографии Никифора Тарасьева (Тарасиева) и Невежи Тимофеева. В пользу раннего переезда, скорее всего, свидетельствует и присутствие старой бумаги в казанском памятнике – в столице она вряд ли могла сохраняться два десятилетия [741].
Непосредственным поводом к переезду могло явиться то обстоятельство, что с 1564 г. в столице успешно выпускала продукцию типография Ивана Федорова и Петра Мстиславца, и вторая «штанба» становилась здесь излишней. В таком случае переезд печатни (возможно, лишь с частью шрифтов и оборудования) следует датировать 1565–1568 гг., верхнюю границу определяет дата ухода из Москвы Ивана Федорова и Петра Мстиславца (после чего анонимная типография снова переставала бы быть здесь «лишней»), но и сама эта дата устанавливается недостаточно точно (хотя, скорее всего, это событие произошло не позднее конца 1567 г.) [742]. Дате 1565–1567 гг. не противоречит и старая бумага казанского издания (см. выше), и даже отсутствие упоминания в писцовой книге (к началу работы над которой оборудование могло еще просто не доехать до Казани или еще не было в работе).
Находка казанского издания и отождествление его шрифта с одним из шрифтов анонимной типографии позволяют внести коррективы и в интерпретацию известия о сгоревшей в Москве типографии, имеющегося в записках о Московии А. Теве (1584) и Дж. Флетчера (1589).
Я. Д. Исаевич, рассматривая вероятность того, что речь может идти о типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, предложил следующие возможные версии:
1) сведения о сгоревшей типографии относятся не к «штанбе» Ивана Федорова, а к анонимной типографии либо к печатне, основанной Никифором Тарасьевым и Невежей Тимофеевым;
2) речь идет о типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, но при пожаре удалось спасти часть ее оборудования: шрифты (или по крайней мере пунсоны) и часть гравировальных досок [743].
В момент издания книги Я. Д. Исаевича варианты с анонимной типографией и печатней Никифора Тарасьева выглядели абсолютно равноценными, так как о позднейшем использовании их печатных материалов ничего не было известно. Ныне же, с изменением ситуации, «штанба» Никифора Тарасьева и Невежи Тимофеева выглядит наиболее вероятным кандидатом на роль «погорельца». Но так как дата пожара (хотя бы год его) остается по-прежнему неизвестной, а сообщающие о нем источники можно квалифицировать как современные лишь с натяжкой (хронологически разрыв между событием и фиксацией известий о нем даже у Теве приближается к 20 годам), нельзя не упомянуть и другие вполне возможные версии: