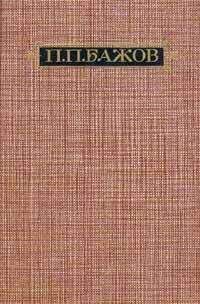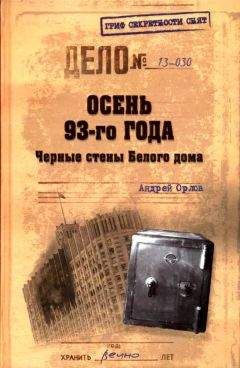Павел Петрович Бажов
За Советскую правду
Партизанское движение в Сибири не раз освещалось в воспоминаниях участников и в художественной литературе.
Это вполне понятно.
Но мне кажется интересной и та полоса, когда движение еще не оформилось, но уже везде чувствовалось.
Обманутое вначале сибирское крестьянство теперь приходило везде к одинаковому выводу: «Какой это порядок: четверть — пирует да торгует, остальные воюют, либо без дела дома сидят».
Ничего яркого, бьющего в глаза в этой полосе жизни, Сибири, но мелочи были настолько показательны, что а решаюсь дать маленький кусок тогдашнего быта, по рассказам непосредственных участников.
Здесь нет выдумки. Иногда даже не изменены названия мест и действующих лиц. Оставшиеся в живых могут узнать себя.
Время действия февраль-апрель 1919 года.
Шестеро на площадке товарного вагона — норма. Даже самые строгие охранники не придираются на остановках.
Стоять приходится боком. Положение крайних опасное. «Бывает, что и спихнут». В середине и безопаснее и теплее. Только все-таки холодно.
Конец зимы, безветрено, а дышать больно. Зима девятнадцатого года, мягкая и снежная вначале, теперь прижала наглухо. Вторую неделю держатся морозы, лютые, упорно ровные, градусов на тридцать пять. Начинает казаться, что это тоже норма, как шестеро на площадке.
Есть площадка — значит на ней должны стоять шестеро, которые угрузли в шубы, изредка переговариваются, замерзают и безнадежно смотрят на «сибирские просторы».
Кроме телеграфных столбов, не на чем остановиться глазу. Ни одного пятнышка. Бело и ровно.
Хоть бы кустик какой.
Через сорок верст остановки. Станционные постройки видны только крайним — на площадке. Поезд либо не доходит, либо далеко проходит мимо станции. Сходить нельзя — место потеряешь.
К остановке заранее готовятся. В проход и к буферам выставляют острые углы корзинок, сундучков. «Крайние» спускаются на последнюю ступеньку.
Дикая возня, матерщина, просьбы, женские слезы:
«Мне бы только перегон!» Все пущено в ход при первой атаке на вагон.
Получив должный отпор, осаждающие переходят к «дипломатическим» переговорам, сначала у вагонов, потом у площадок.
— Может, братцы, кому недалеко? Потеснились бы!
— Видишь — шестеро.
— Выпили бы по стекляшке. Пользительно на морозе…
Из-за пазухи достается самый действительный железнодорожный билет колчаковского времени — бутылка с красной головкой.
Прозрачная жидкость искрится на солнце. Руки стоящих на площадке, как по команде, вытирают усы. У каждого в голове одно: «Глотнуть бы — сразу теплее станет». Один из спекулянтов равнодушным тоном осведомляется:
— Тебе докудова?
— До Новь-Николаевска только…
— А до его сутки, — вздыхает спекулянт.
— На ступеньку, может, пустим? — спрашивает другой.
— Нельзя. Охрана всех снимет. Скажет — беспорядок.
— Как же, братцы, не выйдет, знать, дело? — спрашивает еще раз человек с бутылкой и прячет ее за пазуху.
— Возьми керенку.
— Не. Непродажная.
— Две возьмешь?
«Дипломат» резко мотает длинными ушами заячьей шапки и направляется к вокзалу.
Крики и беготня стихли. Все забились в вокзал, в тепло. Поезд будет стоять не один час. Но пассажиру-одиночке сбегать погреться нельзя. Вещи вышвырнут, место продадут. За бутылку, за две.
Надо держаться, пока можешь.
Холодно…
И куда это только едут?
Маленький бритый человек в синих очках притулился в середине площадки, между двумя мордастыми спекулянтами.
Поверх городской шубейки надет огромный, с чужого плеча, бараний тулуп с «саксачьим» воротником. «Семифунтовые казанские с крапинками» надежно защищают ноги от холода. Теплая на меховой подкладке шапка-ушанка.
А все-таки, видно, перемерз. Кашляет. Надрывно, подолгу, до холодного поту. Беспокойно возится. Руки тянутся к пояснице, где расползлась окопная язва.
Высокий спекулянт в дохе из дикого козла ворчит:
— Умирать которым пора, а тоже за товаром ползут.
Рыжебородый толстяк, стоящий вторым с краю площадки, поддерживает своего приятеля:
— Вон у меня тоже сидит какой-то… Не шевелится. Замерз, поди, а место занимает.
— Столкнуть когда, — отзывается козья доха.
— Само собой. Куда мерзляков возить. Только я это к тому… Бутылку давеча упустили…
Бритого человека мучительно бьет кашель. Жгуче саднит поясница и плечи. В голове одна мысль — попасть в тепло, в баню.
Куда ехать?
В кармане случайно купленный в Татарске у какого-то полузамерзшего неудачника-спекулянта билет до Иркутска.
Но ехать туда незачем.
Есть и другое удостоверение: на имя Кирибаева — торгового агента по закупке товаров для кооператива. Удостоверение хорошее. Напечатано на машинке. Номер, печать с двумя руками, три подписи. Только полагаться на него все-таки нельзя. Подписи плохо сделаны. Да и мало одного удостоверения. Опыт показал.
В Омске Кирибаев пытался с этим документом остановиться поискать своих, — так еле выбрался.
Пришлось ехать дальше.
В Татарске не пустили ни в гостиницы, ни на постоялый двор. Из-за кашля: «Умрешь, а тут возись!»
Дальше надо куда-то.
Совсем неожиданно показалось белое каменное здание вокзала. Отчетливо бросилась в глаза надпись: Барабинск.
Ни одного замерзшего окна.
Вот где погреться!
Скрючившийся на краю площадки человек, которого спекулянты считали уже мертвым, вдруг спрыгнул со ступеньки и как-то по-заячьи побежал мимо здания вокзала.
У площадки началась обычная битва.
«Попробую здесь», — решил Кирибаев и полез к выходу.
Сжали до боли в груди, но быстро выбросили на снег.
Теперь в тепло!
Задыхаясь от приступов кашля, Кирибаев побежал к вокзалу, который глазасто уставился на солнце.
В здании оказалось просторно, грязно и… холодно. Окна не замерзли потому, что с начала зимы вокзал не топили. Не было угля.
Железнодорожники пользовались будкой-водогрейкой, но туда попасть постороннему человеку было невозможно.
— Надо итти в город.
Барабинск в сущности не город, а железнодорожный поселок. Расстояния пустяковые. Бани общественной нет. Гостиница одна. Две школы, три кооператива. Видимо, конкурировавшие тогда «маслоделы» — «Закупсбыт» — и «Сибсоюз».
— Чуть не дерутся за покупателя.