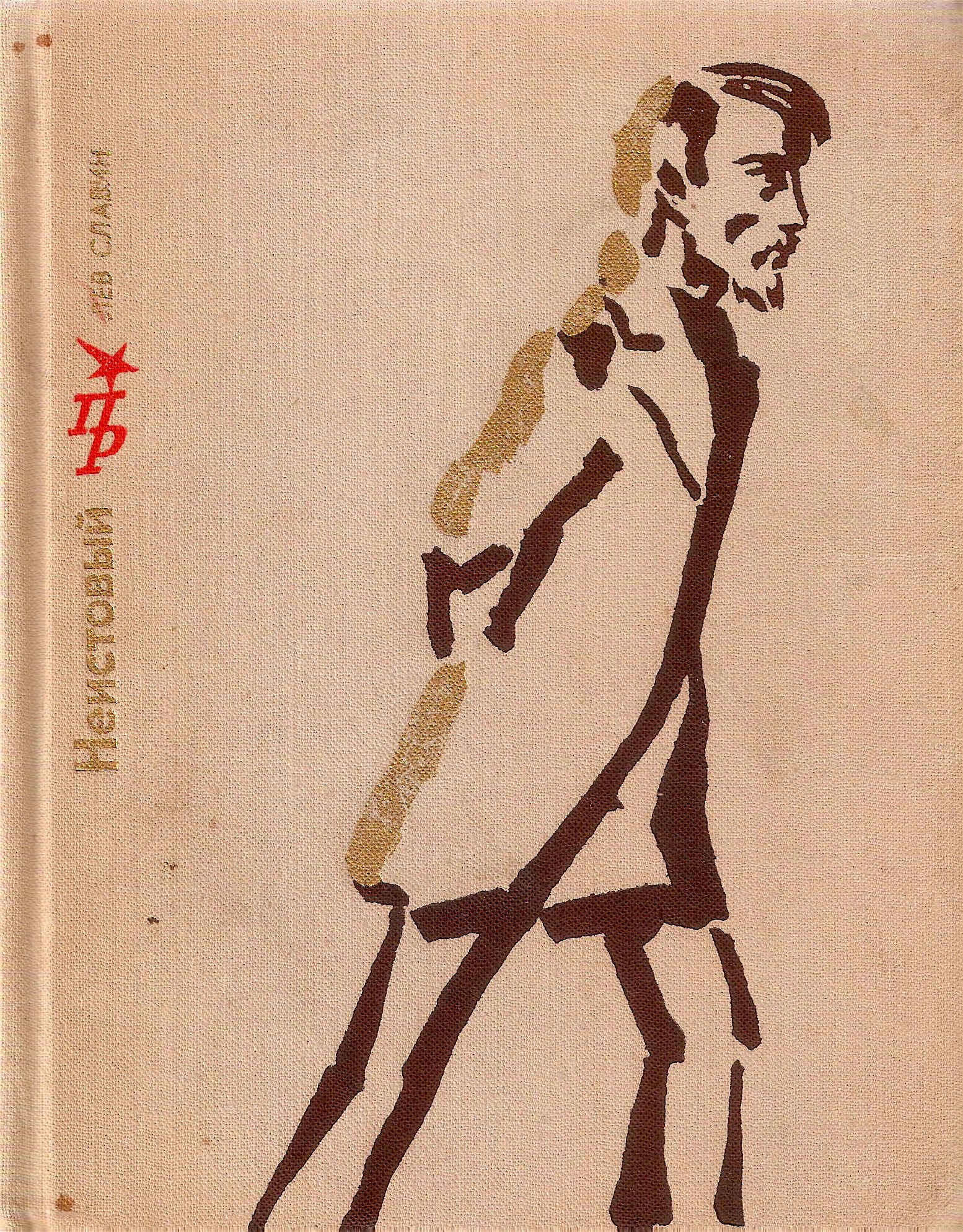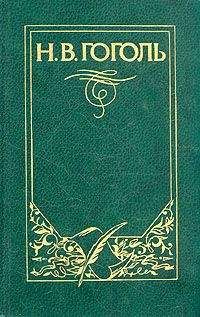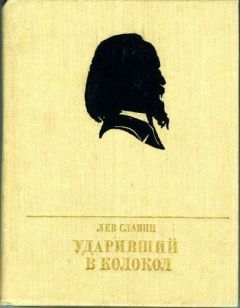Неистовый. Повесть о Виссарионе Белинском
Часть I. БЕЗБОРОДЫЙ ГЕГЕЛЬ
Никодим Аристархович Надоумко с Патриарших прудов в Москве, студент из простых
Надеждин явился рано не только
для публики, но и для самого себя.
Чернышевский
Тимоша Всегдаев и Валера Разнорядов сидели за передним столом. Когда Николай Иванович Надеждин, профессор теории изящных искусств и археологии, маленький, большеносый, пухлогубый, отнюдь не старый, взошел на кафедру, Тимоша и Валера уставились на него восторженными глазами. Николай Иванович привык к этому. Он был любимцем студентов. Привыкнуть — привык, а всё же ежедневное поклонение молодежи было необходимо ему, хоть он как бы и не замечал его, вроде того, например, как мы с вами не замечаем ведь присутствия воздуха, без которого, однако, мы незамедлительно задохлись бы. Таким образом, мы в состоянии заметить только отсутствие воздуха.
Профессор разложил перед собой листки с записями и тут же отодвинул их, подчеркивая, что памяти его не надобны подкрепления. Он начал своим приятным голосом, полузакрыв глаза и слегка покачиваясь:
— Уважаемые коллеги! В прошлый раз мы остановилась на том, что философия должна собрать воедино все успехи различных наук и обратить их на пользу жизни... Шеллинг утверждает...
Шеллинг! Студенты уже знали, что Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг — бог профессора Надеждина. Но они не знали (да и откуда? Они ведь не имели в руках его сочинений), что Николай Иванович шагнул дальше столба, утвержденного Шеллингом, и вторгся в пределы, начертанные Гегелем, о чем, впрочем, он сам не подозревал, ибо Гегеля до сих пор не читывал. Да, искусство должно возносить человека над жизнью. Это так. Но, кричал профессор, простирая с кафедры свою короткую ручонку в кружевном манжете, красота есть плод не только ощущений нашего духа, но и свойство наблюдаемого явления. И студенты, старательно скрипя перьями, не догадывались, что этот маленький сгорбленный человек, вещавший с кафедры,— богоборец, что он сейчас борется с отвлеченной шеллингианской игрой логическими понятиями, что он вносит в книжную немецкую отвлеченность русскую жизненную поправку.
О политике, конечно, на лекциях ни звука. Не то время, чтобы предаваться вольнодумным излияниям. Всего лишь какой-нибудь десяток лет минул с того дня, как на валу кронверка Петропавловской крепости закачались в петлях тела пятерых. До сих пор люди продолжали рассекать время на «до» и «после». — «Простите, это было до?» — «Нет, что вы, после!» — «Уверяю вас, это было до. Моя младшенькая родилась семнадцатого декабря, как раз через три дня после...»
Нет, что вы, какая там политика! Университет — этот храм чистой науки.
— К сожалению, есть журналы, мешающие науку и искусство с политикой,— сказал профессор Надеждин, чуть иронически сморщившись.— Я же призываю вас, господа, не считаться с мнениями господ Греча и Булгарина о литературе. Вот они пусть себе занимаются делами политическими, а в искусстве им делать нечего.
Однако дома, в своем кругу, плотно притворив двери и убедившись, что среди гостей на этот раз нет практических сердцеведов, Николай Иванович позволил себе так отозваться по поводу последних хлопот министра Уварова о насаждении образованности в стране:
— Правительство заботится о распространении просвещения, а потом вешает просвещенных...
Гости — среди них был и Тимоша Всегдаев, долговязый тощий малый, с маленькой головкой на длинной шее, имевший в себе что-то змеевидное,— переглянулись с боязливым восхищением. Один только бывший студент Белинский, на правах своего в доме возлежавший на диване, с обычной запальчивостью своей выкрикнул:
— Признаюсь, не вижу доблести в том, кто храбрится в полумраке своей гостиной, а на полном свету, разумею — в статьях своих разливается комплиментами власть предержащим!
Профессор выпрямился в креслах всем своим небольшим тельцем. Гордость выразилась в его лице, еще молодом, но уже таком усталом, и он сказал:
— Я, сударь мой, плебей. Да-с! Я, как вы знаете, начал жизнь босиком. Что может быть общего между мной и этими барами, которые дерут шкуру с крестьян, да с высокопоставленными чиновниками, которые грабят казну да берут взятки с живого й мертвого! Зря, что ли, меня ненавидят? Как же, поповский отпрыск затесался в литературу, которая, изволите видеть, есть привилегия знатных. Мне передавали слова пушкинского дружка, князя Вяземского: «Пономарь Надеждин ругает публику с колокольни, куда он забрался с просвирней». А у нас в Москве Шевырев — тот просто объявил, что я пишу слогом «Че-тьи-Мипеи». Меня, признаться, злобствования моих врагов только радуют. Значит, донял я их в самом их сокровенном. А что касается статей моих...
Но Белинский — он даже приподнялся — возбужденно перебил его:
— А в статьях своих, Николай Иванович, вы подчас извиваетесь, как змея, уж простите меня, хитрите, придуриваетесь. Чего стоит одно только поношение гениального пушкинского «Годунова»!
Надеждин вскочил и зашагал по комнате. Тишина наступила такая, что слышен был скрип паркетных шашек под ногами профессора. Все ждали взрыва. Но он заговорил тихо, торопливо, как на исповеди:
— Мне, господа, известна жизнь во всей ее отвратительной наготе. Я знаю, что в ней нельзя иначе двигаться, как ползком. Да-с! Нельзя иначе поддерживаться, как подлостью и грабительством... Но я до сих пор не позорил своих колен, не осквернял своих рук. Это составляет мое утешение, мою гордость. Не раз я говорил себе, что я мог бы, пребывая в христианском смирении, составить себе кругленькое состояньице... Да, так думал я, грешный человек. Но потом сам же стыдился себя, что мог пасть до подобных мыслей...
Все оглянулись на Белинского. Он молчал. Во взгляде его появилась мягкость. Он любил профессора. Да, мягкость и сожаление. Он думал, с печалью смотря на Надеждина: «Еще один хороший искаженный русский человек...»
— А что касается статей,—вдруг сказал Надеждин, остановившись,— то знайте, что в № 15 «Телескопа» я начну публикацию «Философических писем» Чаадаева!
Все вокруг зашумели. Белинский вскочил с дивана.
— Решились? — воскликнул он.
— А что ж,—сказал профессор,—письма Петра Яковлевича уже лет восемь ходят в списках. Кто