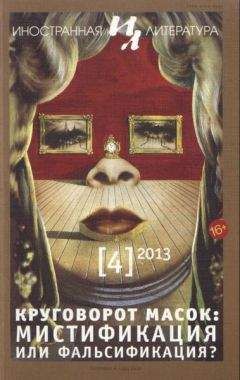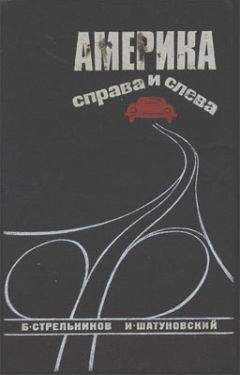Елена Халтрин-Халтурина
«Дивный отрок» Томас Чаттертон — мистификатор par excellence
Бледный утренний свет, проникая сквозь окно чердачной каморки, выхватывает из темноты фигуру юноши, лежащего на скромном диванчике. Сквозь сумрак комнаты проступает несколько красочных пятен. Справа — алый камзол, брошенный на стул. Слева, словно отблески от камзола, — рыжеватые пряди на вихрастой голове юноши. В центре композиции — самое крупное и сочное цветовое пятно: лиловые панталоны, которые более всего притягивают глаз, но менее всего вяжутся с образом служителя муз. Голова лежащего склонилась к открытому старинному сундуку с бумагами; в ногах — недогоревшая свеча (символ безвременно прерванной жизни). На полу — листы рукописи, разорванные в клочки, и опорожненный аптекарский флакон. Вверху, на подоконнике, — роза, роняющая лепестки. А за ней — взгляд снова устремляется к освещенному окну на заднем плане — различимы очертания куполов и крыш рассветного Лондона.
Картина художника-прерафаэлита Генри Уоллиса «Смерть Чаттертона», впервые выставлявшаяся в Королевской академии в 1856 году и принесшая живописцу успех[1], — это не единственная дань памяти английскому сочинителю, поэту Томасу Чаттертону (1752–1770). Многие изображали Чаттертона, и портреты — как живописные, так и словесные — получались весьма разнообразными. Не случайно ученые-исследователи отмечают, что в литературе и искусстве «Чаттертон оказался <…> представленным множеством Чаттертонов, нередко мало похожих друг на друга. Нередко он становился лишь поводом для развития идей, которые, казалось бы, не должны иметь к нему отношения»[2].
Генри Уоллис. Смерть Чаттертона
Общее мнение читателей о Чаттертоне, оценка его вклада в литературу менялись от столетия к столетию. Примерно с конца XIX века за ним стала закрепляться слава великого мистификатора. А начиная с XX века, пожалуй, ни один труд, хоть сколько-нибудь глубоко затрагивающий историю художественных фальсификаций, не обходится без упоминания его имени. Однако произошло это не сразу.
Впервые особый резонанс имя Чаттертона — «дивного отрока»[3] — получило в эпоху романтизма. И не случайно. Дело в том, что в жизни, поэзии и смерти этого человека, как в капле воды, отразилось многое из того, что увлекало и волновало людей его эпохи (не только XVIII, но и XIX веков).
В глазах романтиков, а также поколения, пришедшего им на смену, фигура Чаттертона прежде всего ассоциировалась с архетипической фигурой гения-страдальца, гонимого своими современниками, своеобразного «невольника чести». Так воспринимал юного поэта английский «прерафаэлит» Данте Габриэль Россетти, посвятивший ему сонет (входит в цикл «Пять английских поэтов», 1881). Схожие думы нашли отражение в драме «Чаттертон» (1835) французского писателя Альфреда де Виньи, а также в опере «Чаттертон» (1896), которую создал итальянский композитор Руджеро Леонкавалло через четыре года после «Паяцев». Еще раньше оплакивал печальную участь гения и Джон Китс (1815):
О Чаттертон! О жертва злых гонений!
Дитя нужды и тягостных тревог!
Как рано взор сияющий поблек,
Где мысль играла, где светился гений!
Как рано голос гордых вдохновений
В гармониях предсмертных изнемог!
Твой был восход от смерти недалек,
Цветок, убитый стужей предосенней.
Но все прошло: среди других орбит
Ты сам звездой сияешь лучезарной,
Ты можешь петь, ты выше всех обид
Людской молвы, толпы неблагодарной.
И, слез не скрыв, потомок оградит
Тебя, поэт, от клеветы коварной.
Сонет к Чаттертону. Перевод В. Левика
Под клеветой (у Китса дословно — «base detraction» — «грубое принижение», «низменная хула») имеются в виду шумные пересуды, окружившие имя Чаттертона сразу после его гибели. Талантливого поэта-простолюдина, прибывшего из провинции в Лондон, осуждали за совершение самоубийства, строили домыслы о его венерическом заболевании (в лечебных целях он якобы должен был принять малую порцию мышьяка — как тогда было принято, — но ошибся с дозой). Иными словами, интерес широкой публики притягивала отнюдь не дивная поэзия Чаттертона. Символом такого повышенного интереса общества к пикантным деталям и сделались лиловые панталоны на картине Г. Уоллеса, в то время как признаки истинного дарования Чаттертона укрылись от глаз толпы, ушли в тень.
Между тем Чаттертон был многосторонне одарен — и это не ускользнуло от внимания истинных почитателей и знатоков словесности, которые тянулись к его сочинениям из-за любви к истории родного края, к фольклору, к народным балладам, к мифотворчеству — тому, что в современной литературе называют антикварианизмом.
Красотой образов и звуков очаровывали читателей многие лирические отрывки, созданные Чаттертоном. Будучи далеки от строгих риторических канонов средневековой и классицистической поэзии, они предвосхищают вольный лирический стих романтиков Колриджа, Китса и Шелли. Это не случайно, ведь названные поэты подражали Чаттертону, воспроизводя в своих стихотворениях гипнотическую мелодику его стиха. К примеру, вторжение анапеста в ямбическую строку, характерное для целого ряда сочинений Чаттертона, передалось, по мнению ученых, Колриджу, когда он создавал свою «Кристабель». Это тот самый незабываемый сбивчивый ритм, который известен нам по следующим строкам:
Но, когда проходила леди, — сильней
Вспыхнули вдруг языки огней,
Кристабель увидела леди глаз
На миг, пока огонь не погас.
Только это, да старый щит,
Что в нише на стене висит.
Перевод Г. Иванова
Ритм поэзии Чаттертона отозвался эхом не только у Колриджа. Взять хотя бы яркий пример из наследия Китса: в ритмическом рисунке «Кануна святой Агнессы» повторяется звучание чаттертоновской «Превосходной баллады о милосердии».
Что касается драматических образов (а надо сказать, Чаттертон увлекался описаниями исторических сражений, рукопашных схваток на поле брани), они тоже производили неизгладимое впечатление на восприимчивых читателей. Известно: Уильям Блейк позаимствовал несколько батальных картин из малой поэмы Чаттертона «Годред Крован» для создания своей баллады о сражении норвежского короля Гвина с британским великаном Годредом[4].
Как мы видим, воздействие Чаттертона на английскую поэзию весьма велико и разнообразно. Не случайно Перси Б. Шелли в элегии «Адонаис» (1821) называет Томаса Чаттертона среди светил мировой литературы, ставя его рядом с великим английским пиитом Филипом Сидни и римским эпиком Марком Аннеем Луканом: