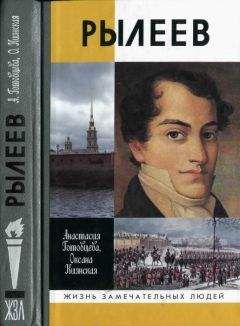Пушкинские «литературные жесты» у М. Ю. Лермонтова
Сюжет, которым мы займем внимание читателя, восходит хронологически к середине 20-х годов XIX века, когда о Лермонтове-поэте еще нет и речи. На литературной авансцене совсем другие лица — декабристы-литераторы и молодой Пушкин, находящийся в южной ссылке. В Петербурге альманах «Полярная звезда» расходится с невиданным до того успехом; его издатель К. Ф. Рылеев только что закончил новую поэму «Войнаровский», которая еще не напечатана и ходит в списках.
Приятель Рылеева, также будущий декабрист, П. А. Муханов пишет ему с юга: «Войнаровский, твой почтенный дитятко, попал к нам в гости; мы его приняли весьма гостеприимно, любовались им, он побывал у всех городских любителей стихов и съездил в Одессу. Я тебе говорю об отрывках, которые занесены сюда не знаю кем… Войнаровский твой отлично хорош: я читал его М. Орлову, который им любовался; Пушкин тоже…»
Письмо от 13 апреля 1824 года. Пушкин читает отрывки декабристской поэмы в Одессе.
Пушкин находит строфу и в плащ широкий завернулся единственною, выражающею совершенное познание сердца человеческого и борение великой души с несчастием…[1]
«Строфа», о которой говорил Муханов, изображала сцену, когда гетман Мазепа узнал о крушении своих честолюбивых замыслов и о проклятии, положенном на его имя. Она звучала так:
В ответ, склонив на грудь главу,
Мазепа горько улыбнулся;
Прилег, безмолвный, на траву,
И в плащ широкий завернулся…
Что же привлекло Пушкина в этих стихах? Жест. Скупой, лаконичный и выразительный, за которым угадывается сильное душевное движение.
Он сам в эти годы упорно искал именно такого жеста. Через шесть лет он будет вспоминать, как А. Раевский «хохотал» над подчеркнутой театральностью жеста в «Бахчисарайском фонтане». «Молодые писатели, — напишет Пушкин в „Опровержении на критики“, имея в виду и собственные свои ранние поэмы, — вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама».
Строчка в «Войнаровском» была удачным примером изображения «физического движения страстей».
Тем временем сам Пушкин, уже в Михайловском, заканчивает «Цыган», где вновь сталкивается с той же проблемой. Он пишет кульминационную сцену поэмы, где Алеко смотрит, как предают земле убитых им Земфиру и молодого цыгана. Он закончил сцену словами:
Алеко издали смотрел
На все. Когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.
Это была одна из первых его попыток создать «жест» по рылеевской модели, — и через три года его особенно задело замечание в рецензии Вяземского. Тот очень высоко оценивал поэму, но стих «и с камня на траву свалился» ему решительно не нравился и казался «вялым». В поздней приписке к статье о «Цыганах» Вяземский вспоминал, что А. А. Муханов (кстати, брат того Муханова, о котором мы уже упоминали) рассказывал ему, будто Пушкин не совсем доволен «слишком прозаическим взглядом» и докторальным тоном Вяземского; Вяземский полагал даже, что эпиграмма Пушкина «О чем, прозаик, ты хлопочешь?» была местью ему со стороны Пушкина[2]. В толковании эпиграммы он ошибался, — но след спора его с Пушкиным о «жесте» Алеко остался в печати; в 1829 году в «Московском телеграфе» (№ 10) проскользнуло попутное замечание: «…Не прав ли Пушкин, сказавший одному своему критику, осуждавшему его стих в „Цыганах“ „И с камня на траву свалился“: „Я именно так хотел, так должен был выразиться!“»
Между тем в марте 1825 года выходит в свет печатное издание «Войнаровского». Рылеев сразу же послал в Михайловское экземпляр, чтобы получить от Пушкина замечания. Пушкин вернул книгу со своими пометами.
Этот экземпляр не дошел до нас, и замечания Пушкина восстанавливаются лишь отчасти по косвенным свидетельствам, более всего по мемуарам Николая Бестужева. Бестужев был разочарован. Пушкин, по его мнению, искал «верных, красивых, разительных описаний» и «гармонии» и слишком сдержанно реагировал на те места, которые казались Бестужеву «истинно прекрасными» (среди них он называл и строки о Мазепе), — в то время как «при изображении палача, где Рылеев сказал: „Вот засучил он рукава…“, — Пушкин вымарал это место и написал на поле: „Продай мне этот стих!“»[3].
Бестужев удивлялся странности выбора, — но Пушкин был верен себе. Он искал «жест» и находил его. Он писал Вяземскому об этой сценке в «Войнаровском»: «У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал»[4]. Еще в сентябре 1826 года он рассказывал московским литераторам о своих литературных планах и в их числе о сцене с палачом, который «шутит с чернью, стоя у плахи»[5]. Эта сцена потом нашла себе место в «Полтаве». Рылеевская реминисценция была здесь переосмыслена полностью: о «веселом палаче» в «Войнаровском» не было и речи, и жест «засучивания рукавов» имел совершенно иной эмоциональный смысл.
Строки же о Мазепе стали ходячими в пушкинском кругу.
В 1827 году их перефразирует И. И. Козлов в «Княгине Наталье Борисовне Долгорукой»: «Он завернулся в плащ широкой: / Он в думе мрачной и глубокой <…>».
1 ноября 1828 года Языков пишет А. Н. Вульфу: «А что я не отвечаю иногда на письма почтенных особ, желающих получить что-нибудь от моей музы, то поступаю подобно изменнику Мазепе, который „Прилег безмолвный на траву / И в плащ широкий завернулся!“»[6].
Через месяц — 3 декабря — Дельвиг пишет Пушкину: «…закопаюсь в смоленскую крупу, как Мазепа в „Войнаровском“ закутался в плащ»[7].
Цитата становилась речением, формулой, которой сопутствовала устная традиция. В этом сопровождении она и попадает к новому поколению писателей.
Лермонтов, которому суждено стать голосом этого поколения, в 1825 году — одиннадцатилетний мальчик. В конце 20-х годов он — ученик Благородного пансиона; он начинает свой поэтический путь, читает и Пушкина, и Рылеева, и Козлова. Из литературных кругов Москвы до него доносятся отзвуки эстетических споров.
Уже было замечено, что в поэме «Каллы» заключена парафраза строки из «Цыган»: «И с ложа вниз, окровавленный, / Свалился медленно старик»[8].
Пока это лишь словесная формула, но она запала в литературное сознание юного поэта, потому что была отмечена критикой и устным преданием. Но далее появляется нечто новое.