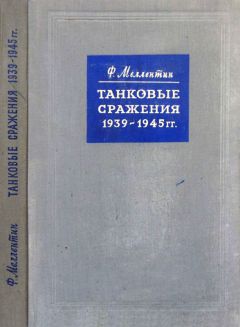6 января 1919
— Отделение, стой! Мы стоим, один унтер-офицер, восемь солдат, на углу улицы. На улицах пока еще мало людей.
Унтер-офицер выходит на несколько шагов вперед и просматривает главную улицу вверх и вниз. Он возвращается и пожимает плечами: — Пока еще ничего не видно. Отдельные люди останавливаются; один старый господин проходит мимо, останавливается и говорит нам, сияя: — Все же, это, по крайней мере, еще солдаты! Он обращается к унтер-офицеру: — Ну, вы наверняка скоро покончите с этим вонючим правительством? Унтер-офицер спокойно рассматривает господина и говорит: — Я социалист. Господин вздрагивает, краснеет и быстро уходит.
Движение среди нас, восьми солдат. Унтер-офицер Кляйншрот — социалист? Этот спокойный, темный, серьезный человек? Я робко смотрю на него со стороны. Ефрейтор Хоффманн поворачивает ко мне веселое лицо и улыбается: — Ага, ты удивлен, да? И я тоже социалист. В партии с 1913 года!
Я пораженно молчу. Хоффманн говорит вполголоса и усердно: — Дружище, мы же, все-таки, хотим государства! И потом, через некоторое время: — А я же был рабочим, токарем по металлу. — «Был рабочим», думаю я, «был», он говорит, почему же он говорит «был»?» Хоффманн смотрит напряженно:
— Если мы хотим социализировать, все же, то мы не позволим раньше сломать все, что мы…, - и снова умолк.
Вдруг шипение в воздухе. Оно приходит сверху и наполняет туман, который тяжело нависает над нами. Нет, не сверху, оно приближается слева, нарастает и нарастает, и поглощает каждый шум улицы, вздувается в пространстве и как бы прижимает все движение к стенам домов. Унтер-офицер выскакивает на несколько шагов вперед и быстро снова возвращается. — Они идут! — говорит он и указывает на темную подворотню, который, где улица делает изгиб, размещен косо к открытой площади. Там стоим мы, в тени, невидимые, но все видящие. — Вольно! Унтер-офицер смотрит вперед, потом он поворачивается, приближается на три шага ко мне, ко мне, самому молодому и самому маленькому, который стоит на левом фланге, и говорит почти угрожающе: — Смотри мне, если твое ружье пальнет до моего приказа… Я говорю: — Никак нет, господин унтер-офицер! Он глядит на меня мрачно, потом идет до середины нашей шеренги.
Вдруг много людей оказывается на тихой улице. Из домов подбегают женщины, собираются дети, извозчики останавливают свои телеги. Все больше людей приходят, молодые парни, большинство в защитных армейских тужурках, проходят мимо. Углы улицы уже черны от людей. Шум становится все плотнее. С обрывками песни, «Интернационал», с шипением и со стоном подъезжает грузовик, на котором развевается большое и широкое красное знамя. Мы стоим в подворотне, затаив дыхание, и пристально смотрим на площадь. Никто не двигается. Портупея с ручными гранатами давит на тело. Тяжелая винтовка прислонена к ноге. Мы приставили ногу к ноге, спина выпрямляется к напряженно изогнутой линии, глаза глядят вперед из-под края каски.
Во всей своей ширине улица черна. Сама улица продвигается вперед. Кажется, как будто дома захотели нагнуться, там катится перепутанная лента, медлительная, огромная, неприступная, неудержимая, беспрерывная: массы, массы, массы.
Ярко блистают красные пятна над толпой, белые транспаранты парят, чей-то резкий голос кричит: «Да здравствует революция»! Масса шумит: «Ура!» Этот возглас как органное пение доносится глубоко из тысяч грудей, отодвигает в сторону туман, окна дребезжат. Ура! и Ура! Земля гремит, это катится и катится дальше. Народ! Это пробивает себе дорогу предчувствие того, что это значит: это народ! Нет, это массы, тысячи, только массы — и человек к человеку, и тело к телу, и голова к голове — мощь шагов дает почувствовать ритм, и снова появляются знамена, они с трудом продвигаются вперед и между вооруженными, матросам, блестящими винтовками парят транспаранты: «Долой предателей рабочего дела, долой Эберта, долой Шайдеманна», «Да здравствует Либкнехт», «Голод», «Мир, свобода, хлеб!»
Поток не прекращается. Какой ужасный Фауст раздобыл эти массы и безжалостно втиснул этот горячий пар в тесный шланг улицы? Да, если бы они хотели! Кто смог бы здесь противиться им? Шум, они кричат, ненависть брызжет из темных ртов. Вооруженные маршируют, дико сцепляются друг с другом винтовки, битком набитые людьми машины грохочут, пулеметы высматривают своим круглым глазом, между ними ряды сверкающих патронов, готовых к стрельбе, растут из их животов.
Молодой человек, очень бледный и рьяный, прибегает в нашу подворотню. Он взволнованно размахивает руками и кричит: — Уже началось, они заняли этой ночью весь газетный квартал. Либкнехт выступает у Бранденбургских ворот. Вас убьют! Не нужно шутить с берлинцами… Унтер-офицер говорит: — Уходите, дружище. Вам тут нечего делать.
Снаружи рычание внезапно прекращается. Один стоит на автомобиле и говорит. Это маленький, темный, бледный человек, с пенсне, эспаньолкой и зонтом. Он говорит очень короткими, понятными фразами. Слова с трудом доносятся к нам: «Международный пролетариат… Наши соратники во всем мире… Наши братья во Франции, в Англии и в Италии… Германия несет вину…»
Вся площадь теперь набита людьми. Мы видим стену из людских спин. Между ними стоят вооруженные люди, на них белые, косматые шубы, перехваченные портупеями, так что неподвижная шкура надувается бесформенно. Винтовки висят книзу стволами. И один из этих мужчин замечает нас.
Он отходит назад, он кричит и машет. У меня во всех венах заледенела кровь. Они пристально смотрят на нас, отравляюще, парализующе, тысячей глаз. Они рычат — теперь пора — они напирают. — Убейте их, банду убийц. Ненависть шипит, как шипит вода на горячей плите. В красном тумане кружатся головы, руки и тела, они напирают по всей плоскости и с полной мощью.
Тут кричит унтер-офицер — его слова как освобождение проносятся по нашим судорожно сжатым телам: — Зарядить и поставить на предохранитель! Мы вскидываем винтовки, дуло точно направлено в лицо толпе, мы окоченевшими руками открываем затвор, достаем патроны, затвор тихо дребезжит, рычаг щелкает, защелкивается назад — на секунды становится тихо.
Восемь винтовок угрожающе глядят вперед, со смертью в стволе. И перед нами расширяется пространство. Две линии выпрямляются. Невыносимо сгибается напряжение, оно рвет и дергает как тонкая, раскаленная нить, единственное дыхание висит в воздухе, он не поднимается горячо и со стоном из земли, такой похожий на стекло, газовый пар последних мгновений…
Там стоит маленький мужчина с зонтом, он размахивает руками: — Назад, не стреляйте! и становится посредине между обоими неподвижными фронтами.