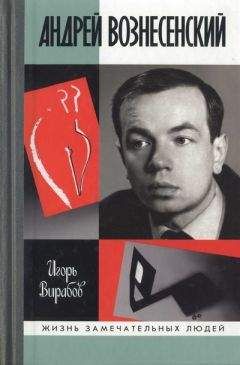И о неком доносчике: «Бог с ним! Пусть бичует меня. Опомнится авось и сам. Конь бьет и задом и передом, а дело идет своим чередом»… Что ж, и истории с доносчиками роднили прапрадеда с праправнуком.
Сохранился послужной список Андрея Полисадова, составленный в 1889 году. После семинарии он женился и служил священником в селе Шиморское. Но пять лет спустя жена его скончалась, оставив Полисадова с малолетней дочкой Марией (ее, прабабку поэта, Полисадов описывал как «сметливую, довольно образованную и очень пригожую»). Потом он учительствовал, обучал крестьянских детей. В 1867 году постригся в монахи с именем Алексий в Новоспасском Ставропигиальном монастыре. В 1882 году переведен во Владимирскую епархию и утвержден настоятелем Благовещенского монастыря в Муроме. Вскоре его возвели в архимандриты и назначили еще и благочинным Троицкого женского и Спасского монастырей. Здесь и завершится его жизненный путь 8 апреля 1894 года.
Графская семья Уваровых, с которой он был близок, увлечется археологией Кавказа, по их инициативе в Грузии отреставрируют храм Свети Цховели.
Вознесенский обнаружит и стихотворные опыты Полисадова, и его размышления о трехголосном древнеславянском песнопении, в котором прапрадеду слышалось эхо древних грузинских хоров. Между прочим, Полисадов еще покровительствовал Ивану Лаврову, изобретателю «гармонического звона в колокола», которому он придумал дивное имя: «самозвон».
Вот ведь еще что интересно. Была в Полисадове удивительная чуткость к языку. Не просто чуткость — он занимался языком увлеченно. 16 февраля 1852 года получил даже «искреннюю благодарность» от Императорской Академии наук за составление Словаря областного наречия и разных оригинальных обычаев прихода Шиморское.
Не одни бомбометатели носились по просторам России, было и еще кое-что интересное в жизни. Энтузиасты вроде Полисадова отправляли свои труды по изучению «местных слов и выражений» Обществу любителей российской словесности, и среди двухсот тысяч слов, попавших в 1863–1866 годах в первое издание «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля, окажутся и 153 слова из словарика, составленного в селе Шиморское Полисадовым.
Смыслы владимирских словечек тех времен давно забыты, а звучат они сегодня — страшно подумать, с чем их мог бы рифмовать поэт. Что за буй? Что за кокуй? А что за зверь такой абуконь? Куда чего сулоть? Чем хороша маниха? И насколько крепок матюк? Вознесенского, между прочим, всегда волновали все футуристические раскопки в прошлом русского языка — так что вспомнить словечки прапрадеда тут совсем не лишне.
Означали они вовсе не то, что читатель сейчас мог подумать. Буй — называлась игра, что-то среднее между лаптой и бейсболом. Кокуй — просто кокошник. Абуконь — подводный камень у берега. Сулоть — значит, сплошь и рядом. Маниха — та, что манит и обнадеживает. А матюк — и того проще: стук от удара топором.
Прапрадеда, писал поэт, поражало еще и «сходство славянских слов с грузинскими: „птах“ аукался с грузинским „пхта“, „тьма“ (то есть десять тысяч) отзывалась „тма“, „лар“ — „ларец“. Суздальская речушка Кза серебряно бежала от грузинского слова „гза“, что означает „дорога“. Зевая, муромцы крестили рты так же, как это делали имеретинские крестьяне. А на второй день Пасхи на могилы здесь клали красные яйца — все возвращало к обычаям его края».
Вознесенский примеряет образ прапрадеда на себя — в поэме «Андрей Полисадов». У него всегда так: и Гойя, и Мерилин Монро, и Гоголь, и граф Резанов, все отчасти — Вознесенские. Каждое «не я» у него — вывернутое наизнанку «я».
И оттого в «Полисадове» мелькнут родные праправнуку лица — отец, возивший сына на Ингури-ГЭС, Борис Леонидович.
И вдруг появится прапрадеду неведомая муза: «Когда ты одета / лишь в запах сеновала, / то щедрее это / платьев Сен-Лорана».
И влечение свое горное, безотчетное оборвет вдруг Вознесенский вопросом в лоб: «Может, мне Каландадзе кузина?» Это про дивную Анну Каландадзе, грузинскую поэтессу, с которой дружили и которой посвящали нежные строки многие, не один Вознесенский, — про нее и Ахмадулина: «…но, Анна, клянитесь, клянитесь, / что прежде вы не были в хашной! / И Анна клялась и смеялась, / смеялась и клятву давала…» Возвращаясь к вопросу Вознесенского про Каландадзе — так после хашной все друг другу немножко кузины.
Зачем все же Вознесенскому эта поэма, о чем она? Образ прапрадеда у него слит с образом собора, открытие прапрадеда становится открытием себя — со своим вечным с детства вопросом: «Зачем второй раз жить? А первый раз зачем?»
Ответ его тут как молитва, в которой чередуются равноправно: «Господи, услышь меня, услышь мя, Господи!»; «Женщина, услышь меня, услышь мя, женщина»…
Молитва эта, с ее отчаянием и соблазнами, неожиданно откликается эхом в тех же Кавказских горах — у средневекового армянского поэта Григора Нарекаци, известного своей «Книгой скорбных песнопений»: «Я обращаю сбивчивую речь / К тебе, Господь, не в суетности праздной, / А чтоб в огне отчаяния сжечь / Овладевающие мной соблазны».
И по губам потерявшего к концу жизни голос Вознесенского можно будет прочесть: «Я стою без голоса, / в неволю отданный, / родина, услышь меня, / услышь мя, родина!»
Господь, женщина, родина. Услышат?
Составить внятную родословную, древо генеалогии, окажется совсем непросто. Хотя Вознесенский старался — белые пятна все равно остались. Имена разлетелись, унесенные ветром. О чем-то недоговорили родители, по крайней мере в довоенные времена, многого лучше было вслух не вспоминать — и детей на всякий случай от подробностей берегли.
У дочери Полисадова, Марии Андреевны, была дочь Елизавета. Кто был ее отцом и, соответственно, прадедом по этой линии — Вознесенскому узнать не удалось. Елизавета вышла замуж за Николая Петровича Вознесенского, сына священника из Суздальского уезда Петра Федоровича Вознесенского и жены его Анны. У Николая Петровича было шестеро братьев и сестер. Многие, включая самого деда поэта, Николая Петровича, были врачами. Медики и священники — это отцовские ветви.
В Москве поэт общался с троюродной сестрой, Натальей Игоревной Вознесенской, — ее дед, Владимир Петрович, был родным братом Николая Петровича. Сестра была намного моложе, потому, видимо, поэт звал ее ласково «Наталочка, моя племяшка». Между прочим, тоже врач.
Во Владимире он познакомится с другой троюродной сестрой — Лидией Дмитриевной, которая вскоре переберется к мужу-англичанину в Лондон. У всех у них свои черновики-родословные, но с теми же пробелами: новых тайн, увы, Вознесенскому они не откроют.