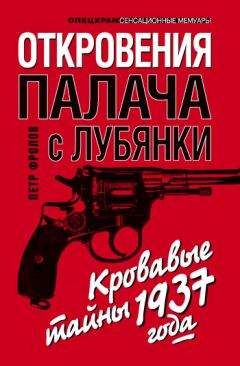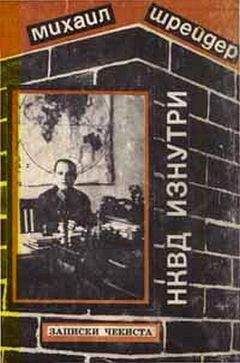Может быть, Поликарпову нравилось убивать или ощущать свою власть над приговоренными к высшей мере наказания? Если он мало пил, то, похоже, его не мучили угрызения совести от содеянного и покойники по ночам к нему не приходили. Если бы у него были такие проблемы, то пулю в висок он пустил бы не после разговора с коллегой, когда понял, что ему придется отвечать за свои деяния.
– Ему что, нравилось это? – вырвалось у меня непроизвольно.
– Сложно сказать. Как вы понимаете, с ним лично я не беседовал. Не успел, – он улыбнулся во второй раз, – подчиненные – те, кто по должности участвовал, – разное про него говорили. Для них он был вроде фельдфебеля[8] в царской армии. Гонял их так, как его при царе. Он до революции два года в гренадерском полку служил. На фронт не попал. Их часть всю Мировую войну в Петрограде стояла. А чтобы служба сахаром не казалась, с ними строевой подготовкой занимались, плац чистить каждый день заставляли, ну и все хозяйственные работы. Это он сам подчиненным рассказывал, когда напивался. Дескать, распустились вы все. Вас бы в царскую армию, там всю дурь из вас выбьют и к дисциплине приучат.
– Так это же антисоветские разговоры! Почему никто не сообщал об этих высказываниях? – искренне удивился я.
– Так ведь сообщали... «врагам народа» во главе с Литвиным. Они все эти доносы читали, потом авторов вызывали и говорили, что если будут на честных людей клеветать, то сами отправятся... – Собеседник снова многозначительно замолчал. – Вот они и молчали. Знали, что угроза эта реальная. Видели тех, кто не поверил Литвину и его подручным...
В Ленинграде я провел две недели. Город я видел лишь два раза – когда ехал сначала с вокзала в управление, а потом обратно. Одной беседой с Черкашиным дело не ограничилось. Мы, к неудовольствию Гоглидзе, встречались каждый день. Следователь в той или иной степени принимал участие в расследовании всех дел, связанных с нарушениями соцзаконности сотрудниками управления. Именно он указал мне на подследственных, кто мог что-либо сообщить важное относительно любых нарушений процедуры расстрелов. Также он мне помог разобраться в специфике оформления уголовных дел и читать только то, что мне требовалось, а не все подряд. В противном случае мое пребывание в Ленинграде затянулось бы надолго. Мною были выявлены многочисленные случаи нарушения соцзаконности, о чем я, вернувшись в Москву, проинформировал Берию.
Признаюсь, я был в шоке, когда узнал подробности происходившего при Литвине и при попустительстве Ежова беззакония. Порой у меня возникала мысль, что творили они все это сознательно, чтобы максимально дискредитировать и тем самым нагадить советской власти. Сразу вспоминались рассказы Блохина о многочисленных вредителях в промышленности и сельском хозяйстве. Так, может, и здесь действовали аналогичные антисоветские элементы? Только уничтожали они не заводы и фабрики, а жизни людей?
Глава 2
С особыми полномочиями
Когда я вернулся из Ленинграда, то несколько дней потратил на подготовку подробного отчета. Берия приказал мне не торопиться и указать в документе все, даже малозначительные, на мой взгляд, факты. Комендант освободил меня от выполнения всех служебных обязанностей.
Кабинет, где я писал текст, даже по меркам конца тридцатых годов, был обставлен скромно. Письменный стол без ящиков, пара стульев. В углу вешалка для верхней одежды. На стене портрет товарища Сталина. На столе – печатная машинка. Рядом с ней стопка чистых листов бумаги. В углу пузатый сейф. На нем запыленный графин без воды и два стакана.
Вручив мне ключ, Блохин предупредил:
– Когда начнешь работать, дверь запрешь изнутри. Когда в сортир захочешь или в столовую пообедать, документ в сейф уберешь. Замок опечатаешь, как и входную дверь. Охрана в коридоре предупреждена, что никто, кроме тебя, сюда входить не имеет права. Когда закончишь, то зарегистрируешь отчет в канцелярии и сдашь в секретариат наркома. Там предупреждены. Действуй.
Вставив первый лист в печатную машинку, я рассчитывал, что к вечеру все закончу. Когда за окном начала властвовать темнота ночи и город начал готовиться ко сну, а я прочел все напечатанное за день, то понял, что передо мною лежит черновик отчета. И даже если я буду работать всю ночь, то к утру все равно не успею.
До дома я добрался пешком. Трамваи уже не ходили. Несколько часов беспокойного сна, скромный холостяцкий завтрак, бритье, и снова за пишущую машинку. К концу второго дня получилось то, что мне хотелось. Хотя и этот текст нуждался в редактуре. Чем я и занимался на третьи сутки. И только на четвертый день, после обеда, я начал печатать окончательный вариант. Поздно вечером, зная, что все подразделения наркомата работают до трех часов ночи – время было тревожное, предвоенное, я сдал отчет в секретариат наркома внутренних дел. Затем отыскал Блохина и доложил ему о выполнении задания. В ту ночь начальник уже успел принять на грудь.
– Пишешь ты складно, наркому должно понравиться, – произнес комендант загадочно и добавил: – Иди, отдыхай, сил набирайся. Тебе они скоро потребуются.
Такое странное поведение Блохина удивило меня. Обычно в пьяном виде он начинал со мной беседовать «за жизнь» или рассказывать о деяниях «врагов народа». А в тот вечер почему-то отправил меня домой.
Я подумал, что, может, комендант каким-то образом узнал или догадался, что я регулярно готовлю для Берии отчеты обо всем, что происходит в спецгруппе, и о поведении Блохина. С одной стороны, это «стукачество», но с другой – единственный шанс защитить Блохина. За время службы на посту коменданта он стал самостоятельным, оброс многочисленными связями, в т.ч. и с «врагами народа», при общении с руководством наркомата держался на равных и прекрасно понимал, что любой из начальников, пусть даже самых больших, мог оказаться в подвале, где на несколько минут власть над приговоренным к смерти обретет палач. Помнил Блохин взлет и падение двух наркомов – Ягоды и Ежова, а также судьбы их подельников. Да и к своему месту службы относился философски. Я не уверен, что комендант знал, что такое дамоклов меч, но точно постоянно ощущал присутствие этого предмета не только в кабинете, но и дома или на отдыхе в санатории. Знал ведь, что «врагов народа», чтобы они не успели перед арестом еще больше советской власти навредить, задерживали не только на работе или дома, но и, например, в купе поезда.
В своих отчетах я старался изобразить Блохина ярым сторонником текущей линии партии, который не только одобрял все решения Политбюро, но и стремился воплотить их в жизнь. В восьмидесятые годы, вспоминая предвоенную службу, я начал постепенно осознавать, что Блохин и Берия не были фанатичными приверженцами генеральной линии партии. Скорее они были жесткими прагматиками, которые считали, что ради победы можно не только использовать любые средства, но и при необходимости менять их на другие.