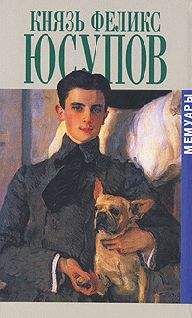Отец пригласил в Пулавы учителя латинского и греческого языков, которого ему порекомендовал знаменитый гетингенский профессор Штейн. Это был молодой датчанин, восхищавшийся, как все те, кто выходит из этого университета, красотами древней литературы. Что касается меня, то, поощряемый Княжниным, преподававшим нам польскую и латинскую литературу, я разделял этот энтузиазм, хотя и немного по-детски, но все же очень искренно. Относясь небрежно к скучному, но необходимому изучению фамматики, я старался понять древних поэтов и потому производил такое впечатление, как будто знаю больше, чем знал на самом деле. Все эти познания я выставлял напоказ перед немецкими учеными, которых встречал во время путешествия. В Праге я познакомился с Мейснером, профессором феческой литературы и автором нескольких произведений на немецком языке. Его известность, в то время очень большая, вероятно, не пережила его.
Я с удовольствием вспоминаю наши беседы с ним, во время которых я, к великому его удивлению, цитировал некоторые отрывки из феческих поэтов.
Проездом через Готу, благодаря рекомендательному письму отца, мы познакомились с бароном Франкенбургом, министром готского герцога. Это был умный, образованный и любезный человек, познакомивший нас с другими знаменитыми и интересными лицами. Снабженные письмом от него, мы отправились в Веймар, на который тогда уже указывали, как на Афины Германии. В Веймаре я виделся с Виландом и Гердером, с которыми мой отец был в переписке. Меня поразила фигура Виланда, так как в ней не было ничего поэтического: маленького роста, немного толстый, уже пожилой, с лицом, покрытым морщинами, в какой-то шапочке, похожей на ночной колпак, которую он редко снимал.
Министр Франкенбург помог нашему знакомству с знаменитым Гете. Мы с Цесельским были даже приглашены на собрание, в котором Гете, в кругу нескольких друзей, читал только что оконченную им и не появившуюся еще в печати драму «Ифигения в Тавриде». Я с большим восторгом слушал его чтение. Гете был тогда в полном расцвете молодости; он был высокого роста, с лицом столь же прекрасным, как и величественным, с пронизывающим взглядом, иногда немного презрительным, смотревшим на мир с высоты своего величия, что вызывало улыбку на его красивых губах. Восторг такого молодого человека, каким был я, был им едва замечен; это была дань, к которой он привык. Позже Гете сделался министром великого герцога Веймарского и не выказывал такого же презрения к разным официальным милостям и получению орденов, но он всегда сохранил в выражении своего лица и всей своей фигуре некоторое величие, что заставляло сравнивать его с Фидиевой статуей Юпитера Олимпийского.
Наконец, мы приехали в Карлсбад, где застали уже Огинскую, присутствие которой очень сильно скрашивало наше пребывание в этом городе. Она привезла с собой девиц Седлецких, дочерей ее управляющего, и молодого и очень красивого доктора Киттеля. Ему-то и были поручены заботы о здоровье наших многочисленных дам.
В Карлсбаде было тогда роскошное казино, где собиралось все общество и где устраивались танцы, почти каждый вечер. Эти собрания посещала одна очень красивая дама; имени ее я теперь не припомню. Говорили, что она сумела привлечь внимание императора Леопольда, который был известен своею слабостью к прекрасному полу и который взошел на престол несколько лет спустя. Я был поражен красивыми чертами ее лица, а в особенности ее необычайной подвижностью.
Наконец, мы возвратились домой и провели зиму 1786–1787 года частью в Пулавах, частью в Седльце. Занятия в Пулавах шли не очень систематично, но все же мы занимались с большим рвением. Люиллье давал нам уроки математики и всеобщей истории, Шоу — уроки феческого языка, Княжнин — польского и латыни. Цесельский взял на себя польскую историю и преподавал ее нам по книгам, составленным аббатом Вага; наконец, уроки фехтования мы брали у одного француза. Таким образом были заняты все наши дни.
Каникулы во время карнавала мы провели в Седльце, где в ту зиму собралось многочисленное и блестящее общество. Не мешает сказать несколько слов о дворе жены гетмана, Огинской, и о ее образе жизни. Она была очень набожной, но между тем ее единственной заботой было занимать и развлекать своих гостей. При ней было много прелестных молодых девушек, принадлежавших к дворянским семьям. К концу ее туалета гости допускались в ее комнату, где встречались со всеми этими девицами, по очереди приносившими каждая какую-нибудь принадлежность туалета: цветок или ленту, вуаль или чепец, которые могли понадобиться в этот день. Затем все спускались в залы, где не переставая развлекались.
Огинская очень любила играть в карты, поэтому самые известные игроки собрались в Седльце. Нельзя сказать, чтобы это было похвально, но это служило нам развлечением на некоторую часть дня. Я назову, между прочим, из их числа некоего Дз…, бывшего довольно забавным человеком, а также Влодека, семья которого устроилась в Петербурге. Сын его выгодно женился там и сделался генералом; дочь вышла замуж за весьма известного французского дипломата де Рейневаль. По вечерам танцевали и играли в игры с фантами. Летом гуляли в обширном саду, который назывался Александрией; Огинская устроила его на английский лад; осенью отправлялись на охоту; хозяйка сама принимала в ней участие и стреляла в дичь, пролетавшую мимо нее.
Итак, в Седльце было очень трудно соскучиться. В результате, конечно, была масса романических приключений всякого рода, которых не избежал и я.
Мне попались книжки, вскружившие мне голову, и я целыми ночами зачитывался ими, тогда как гораздо лучше было бы посвятить это время серьезным занятиям.
Одна из молодых девушек, Мария Незабитовская, сделалась предметом моих воздыханий, о чем я решился дать ей понять, с большой робостью. Войти в комнату девиц было свыше моих сил, и я часто простаивал у дверей, не смея перешагнуть порога. Наконец, мы познакомились ближе, и сундук в комнате девиц сделался обычным местом, на котором я устраивался.
Было очень трудно, будучи в Седльце, избегнуть царившей там моды, и каждый должен был, волей-неволей, или «ухаживать» или «влюбиться». У меня было несколько соперников, между прочим Дз…, о котором я уже упоминал, затем Немцевич, а позже еще Бржостовский.
Незабитовская была одна из самых красивых девиц; природа наделила ее качествами, которыми она выделялась среди других во все время своей долгой жизни. В честь ее писали стихи. Мне помнятся одни стихи, в которых описывали ее характер и которые кончались словами, изображавшими ее строгое отношение к окружавшим. Действительно, было трудно снискать ее расположение, и с своими поклонниками она обращалась с большой суровостью.