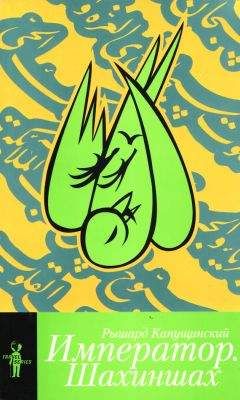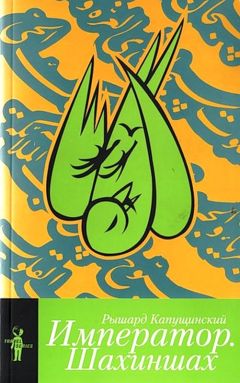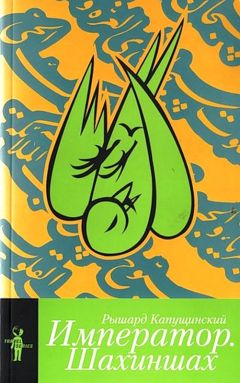Ты спрашиваешь меня, дружище, почему в последний период царствования императора некий Аклилу, не имевший никаких обязанностей (это был плебей), почему он располагал большей властью, нежели рас Мэконнын, глава правительства и аристократ? Потому что ступени власти при дворе зиждились не на иерархии должностей, а на количестве визитов к благородному господину. Таков был внутренний распорядок во дворце. Считалось, что самый главный тот, кто чаще оказывается при императорском ухе. Чаще и дольше других. За это ухо между группировками шла ожесточенная борьба, ухо служило высшей ставкой в игре. Стоило притиснуться (что не так просто!) к императорскому уху и шепнуть. Шепнуть – и точка – только и всего. Пусть это где-то осядет, пусть там застрянет, может, как мимолетное ощущение, как крохотное зернышко. Но придет время – и оно укрепится, а зернышко пустит росток, и вот тогда мы пожнем плоды. Это были крайне деликатные, требовавшие определенного понимания усилия: господин наш, несмотря на свою неистребимую и удивительную энергию и выносливость, оставался, однако, живым существом с ограниченной самой природой вместимостью уха, которое невозможно растягивать и перегружать, не вызывая императорского раздражения, защитной реакции, поэтому за раздел уха шла борьба. Перипетии ее были одной из главных тем погрязшего в сплетнях дворца, гулким эхом отдаваясь в городе. И вот некий мелкий чиновник министерства информации Аббэйе Дебалк удостаивался четырех посещений в неделю, в то время как его начальник не мог рассчитывать больше чем на два визита. У императора имелись доверенные лица, занимавшие подчас самые второстепенные должности, но чрезвычайно влиятельные в силу свободного доступа к монарху, о чем не могли мечтать их министры и даже члены Совета короны. Шла поразительная борьба. Имеющий заслуги генерал Аббие Аббэбэ трижды в неделю бывал у императора, а его противник, генерал Кэббэдэ Гэбрэ (ныне оба расстреляны) удостаивался только одного посещения. Однако его группировка так повела дело и наносила такие удары могущественной, но уже загнивающей группировке Аббэбэ, что тот удостаивался сначала двух, а потом одного визита к императору, а Гэбрэ, который добился успехов в Конго и обрел немалый международный авторитет, удостоился четырех посещений. Я, мой друг, в наиболее счастливую пору мог рассчитывать на один визит в месяц, хотя (явно по недоразумению) мои акции котировались даже несколько выше, однако и так считалось, что я занимаю солидное положение, ибо кроме персональных и наиболее высоко котировавшихся визитов существовала иерархия косвенных доступов к императору второго, третьего и прочих разрядов, где тоже возникали распри, свары, стычки, интриги. О, если о ком-то было известно, что он многократно и запросто вхож к императору, ему низко кланялись, даже если он не был министром. А у кого число визитов шло на убыль, тот уже знал, что милостивый господин понизил его рангом. Добавлю еще, что при миниатюрном сложении, выразительно и пропорционально вылепленной голове у достопочтенного господина были большие уши.
И. Б.:
Я являлся хранителем мешка Аббы Ханны Джэммо, богобоязненного казначея и исповедника императора. Обе достопочтенные особы были ровесниками, одинакового роста и внешне походили друг на друга. Разговоры о каком-либо сходстве с достойным господином, избранником Божьим, – заслуживающая наказания дерзость, но в случае с Аббой Ханной я могу себе позволить подобную вольность: император безгранично доверял моему господину, и свидетельством некоторой даже интимности их отношений служил факт, что Абба Ханна имел свободный доступ к трону, перед ним (можно сказать и так) просто все двери были открыты. Будучи одновременно хранителем казны и исповедником незабвенного господина, Абба заглядывал как в его душу, так и в карман, то есть мог созерцать царственную особу в ее полном объеме. Я всегда сопровождал Аббу в его казначейских обязанностях, следуя за своим господином с мешочком из первосортной овечьей кожи, выставленным ныне ниспровергателями на публичное обозрение. Я был хранителем и другого, большого мешка, наполнявшегося мелкой монетой в канун национальных праздников: дней рождения императора, годовщины его коронации и, наконец, его возвращения на родину[6]. По случаю этих празднеств наш престарелый властелин отправлялся в наиболее оживленный и людный район Аддис-Абебы, именуемый Меркато[7], где на специально возведенном возвышении я водружал этот обременительный для передвижения мешок, из которого наимилостивейший господин брал горсти медяков и швырял их в толпу нищих и прочей алчной черни. Но ненасытный сброд затевал такую свару, что всякий раз этот акт милосердия завершался ударами полицейских дубинок, сыпавшимися на головы разбушевавшихся и напиравших простолюдинов, и тогда удрученный господин покидал возвышение, часто не успевая и наполовину опорожнить мешок.
У. А-Н.:
…словом, завершив раздачу должностей, наш неутомимый господин направлялся в Золотой зал, и здесь начинался час денежных ссуд. Время между десятью и одиннадцатью утра. В эту пору достойного господина сопровождал набожный Абба Ханна и не отстававший ни на шаг от последнего хранитель мешка. Обладавший хорошим обонянием и чутким слухом чувствовал, как по нашему дворцу разносится запах и шелест денег. Но для этого требовалась особая восприимчивость и даже воображение, так как деньги в своем материальном выражении не лежали пачками по углам салонов, да и милостивый господин совсем не собирался оделять своих фаворитов долларами в конвертах. Нет, наш господин не склонен был к этому. Хотя, дорогой друг, это может показаться тебе непостижимым, но даже мешочек Аббы Ханны не был бездонной сокровищницей, и церемониймейстерам приходилось прибегать к различным уловкам, чтобы император из-за финансовых проблем не попал в неловкое положение. Так, мне вспоминается, как по окончании постройки императорского дворца, называемого «Генетэ Леул», господин наш выплатил жалованье зарубежным инженерам, но не пожелал рассчитаться с нашими каменщиками. Эти простолюдины собрались перед фасадом построенного ими дворца и стали просить, чтобы им тоже заплатили за работу. Тогда на балкон вышел главный магистр дворцового церемониала, предложив им перейти на задний двор, где благодетельный господин одарит их деньгами. Обрадованная толпа переместилась на указанное место, а достопочтенный господин смог без досадных помех удалиться через парадные двери и отправиться в старый дворец, где его уже смиренно ожидала вся свита. Всюду, куда только ни направлялся наш господин, народ проявлял свою необузданную, ненасытную алчность, домогаясь то хлеба, то обуви, то скота, то подачек на строительство дороги. А господин наш любил посещать провинции, любил допускать к себе простых людей, познавать их заботы, утешать обещаниями, хвалить смиренных и трудолюбивых, наставлять ленивых и непокорных. Но эта склонность мягкосердного господина разоряла казну: провинции требовалось соответственно подготовить, подчистить, подкрасить, закопать отбросы, истребить мух, построить школу, одеть детей в форму, подновить здание муниципалитета, пошить флаги и написать портреты уважаемого монарха. Недостойно было бы для нашего господина оказаться где-нибудь внезапно, явившись нежданно-негаданно, как презренный налогосборщик, и увидеть жизнь такой, какова она есть. Легко себе представить растерянность и переполох местной знати! Ее трепет и страх! А ведь власть не может действовать, ощущая опасность, власть, – это определенное условие, базирующееся на установленных правилах. Представь себе, дружище, что достойный господин склонен был бы познавать жизнь врасплох. Скажем, монарх летит на север, где уже все готово, протокол соблюден, церемониал отрепетирован, провинция сияет, как зеркало, и вот неожиданно во время полета почтенный господин призывает пилота и говорит ему: сын мой, разворачивай машину, мы летим на юг! А на юге хоть шаром покати! К встрече никто не готов! На юге полный развал, грязь, нищета, все черно от мух. Губернатор отбыл в столицу, знать погружена в спячку, полиция расползлась по деревням и обирает крестьян. Как бы это опечалило милостивого господина! Какое это унижение его достоинства! И даже осмелюсь произнести такое – явная насмешка! Ведь есть у нас провинции, где народ удручающе дик, убог, погряз в язычестве и, если не вмешается полиция, способен оскорбить императорское величество. Есть у нас и такие провинции, где неотесанная чернь могла бы при виде монарха разбежаться. И подумать только, дружище, вот достопочтенный господин вышел из самолета, а вокруг – пусто, тихо, голое поле, на сколько хватает глаз ни души! Не к кому обратиться, сказать речь, утешить, нет триумфальных ворот, нет даже машины. Что делать, как держаться? Поставить трон и развернуть ковер? Еще того хуже и смешнее. Трон придает ощущение силы, но только по контрасту с окружающим его смирением, смирение подданных создает могущество трона, наполняя его смыслом, без этого трон только декорация, неудобное кресло с истертым плюшем и продавленными пружинами. Трон в безлюдной пустыне – это компрометация. Восседать на нем? Ждать у моря погоды? Рассчитывать на то, что кто-то появится и воздаст почести? Вдобавок нет и машины, чтобы добраться до ближайшего селения, разыскать своего наместника. Достопочтенный господин знает, кто он, но как его срочно призвать? Итак, что же остается нашему господину? Осмотреть окрестности, сесть в самолет и все-таки отправиться на север, где все возбужденно и нетерпеливо ждет – и протокол, и церемониал, и провинция как стеклышко. Надо ли удивляться, что в подобных условиях добросердечный господин избегал опрометчивых поступков? Пусть бы, скажем, он огорошил сперва одних, потом других, то здесь, то там. Сегодня застал врасплох провинцию Бале, неделю спустя – провинцию Тигре. Он констатирует: развал, грязь, от мух черным-черно. Он вызывает провинциальную знать в Аддис-Абебу на время назначений, осыпает упреками и лишает их должностей. Весть о происшедшем разносится по всей империи. И каковы результаты? А вот таковы: знать всюду перестает заниматься делами и только и поглядывает на небо – не летит ли достопочтенный господин. Народ гибнет, провинция окончательно хиреет, но все это ничто в сравнении с боязнью императорского гнева. И что еще хуже, чувствуя неуверенность и угрозу, не зная теперь ни дня, ни часа, объединенные общими невзгодами и страхом, они начинают роптать, проявлять недовольство, охать, распускать сплетни о здоровье милостивого господина и, наконец, организовывать заговоры, подстрекать к бунтам, сеять смуту, вести подкоп под, по их мнению, немилосердный престол, от которого (о, как же дерзостен их образ мыслей!) они света белого не видят. И чтобы избежать беспорядков в империи, бездействия властей на местах, господин наш с немалой пользой шел на компромисс, гарантировавший успех ему и знати. Ныне всякого рода ниспровергатели монаршей власти попрекают достопочтенного господина, что в каждой провинции у него имелся дворец, готовый в любой момент принять его. Возможно, что в этом и в самом деле был некоторый перебор, ибо, скажем, в центре пустыни Огаден возвели роскошный дворец, который просуществовал лет пятнадцать всегда с прислугой и запасом свежих продуктов, а неутомимый господин провел там только один день. Но допустим, маршрут поездки достойного господина пролегал бы когда-нибудь так, что ему пришлось бы заночевать в сердце пустыни. Разве же тогда необходимость такого дворца не оказалась бы оправданной? Увы, наша непросвещенная чернь никогда не поймет соображений высшего порядка, а ведь именно они и руководят действиями монархов.