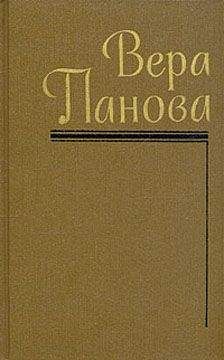— Что теперь будем делать? — спросила Маня.
— А ничего, — ответила Шура, — ты только молчи.
— А если спросит кто?
— Отвечай — знать не знаю, разыскивайте сами. Увидишь — никто и не сунется разыскивать.
Так оно и вышло. До 1950 года труп пролежал на чердаке.
Но в том году случился бунт женщин, живших в этом доме. Они взбунтовались против управдома — зачем держит чердак запертым, белье негде сушить… И так как управдом, по управдомовской своей амбиции, не хотел отворять чердачную дверь — женщины потребовали у него ключ и пошли отворять сами. Вошли и первым делом увидели скелет на полу. За годы, под железной крышей, труп истлел, остался чистый, обглоданный крысами, костяк. Ужасаясь, женщины кинулись в милицию.
Тотчас же прибыло следствие со всем, что полагается, и вскоре Шура была арестована.
Пришлось все рассказывать. В том числе и то, что Маня помогала переносить труп и замывать пол. Маня бросилась к мужу. Но чем он мог помочь теперь?.. Смятение и ужас поселились в смирной трудовой семье. Нечем вдруг стало дышать и Мане, и ее мужу.
Она ходила к следователю и давала свои показания тихим, ровным, безнадежным голосом. И уже это стало даже привычно ей. Даже стало казаться, что это может длиться невесть сколько, ничем не разрешаясь. Как вдруг однажды следователь сказал:
— Больше не могу держать тебя на свободе. Даю тебе две недели выпиши кого-нибудь из родных смотреть за детьми. Есть кого выписать?
— Сестра приедет, — сказала Маня, — если я позову.
— Ну вот, давай выписывай сестру.
Можно вообразить себе, какой был переполох в семье потомственных ивановских ткачей, когда пришло Манино письмо. Тотчас снарядили одну из сестер в Ленинград. Маня с рук на руки передала ей детей, кастрюли и корыто. Детей к тому времени было уже трое.
А теперь она сидела на скамье подсудимых рядом с накрашенной Шурой узколицая бледненькая женщина в старушечьей темной ситцевой кофте, с белым пуховым платком на маленькой русой головке.
А против них за особым столиком сидел скульптор Герасимов и все время зарисовывал эти две головы — разудалую и скорбную, почти мученическую.
Скульптора Герасимова пригласили на помощь в первые же дни следствия. Нужно было установить, кому принадлежит найденный скелет, и сделать это мог только М. М. Герасимов с помощью своего искусства. Согласно его теории, все выступы и впадины черепа определенным образом отражаются на чертах лица, и с помощью этих впадин и выступов можно восстановить облик умершего.
По черепу найденного на чердаке скелета Герасимов вылепил маску, потом ее сфотографировали. И выяснилось, что эта фотография абсолютно тождественна с фотографией исчезнувшей Ани. Так, собственно, и возникло первое подозрение против Шуры. Все, казалось бы, предусмотрела бедовая Шура — и людское равнодушие, и покинутость чердака, и время, превращающее тела в прах, — не предусмотрела скульптора Герасимова.
И все же это убийство, совершенное сгоряча в пылу бабьей ссоры, кажется не столь злодейским, как то, что творила женщина Шура после убийства. Она ухитрилась получать от своего злодеяния регулярный доход двояким образом.
Прежде всего она написала в Пермь Аниному отцу, прокурору, что Аня арестована, а она, Анина соседка и подруга, носит ей передачи, но что ей, бедному человеку, это трудно и она просит Аниных родных помочь ей. И прокурор стал регулярно присылать Шуре деньги, воображая, что они идут на передачи его дочери.
Затем среди Аниных вещей Шура нашла ломбардные квитанции на заложенные вещи. Удивительно, как при постоянных наших кликах о бдительности ломбард выдавал вещи другому лицу, но это факт — Шура получила по квитанциям все Анины вещи — платья, вязаные кофточки, блузки. Кое-что носила сама, кое-что продавала. Правда, Шура и тут словчила сказала служащим ломбарда, что Аня больна и поручила получить свои вещи Мане, и когда явилась скромная Маня с ребенком на руках, служащие преисполнились доверием и отдали ей Анины вещи — вроде бы невероятно, но факт, установленный официальным следствием!
Шуру приговорили к тюремному заключению — на 7 лет, Маню на 5.
Много лет я думаю о Мане. Вспоминаю ее безответный облик, так не вязавшийся с преступлением, ее рассказ о том, как, замыв пол в Шуриной кухне, она вернулась к себе домой и два дня пролежала на диване, ничего не соображая, лишь изредка словно спохватываясь, что же это случилось и что теперь будет… Мне жаль ее и ее мужа, и всю эту семью в Иванове, о которой я знаю только то, что по первому зову Мани они снарядили ей на помощь сестру — то-то, поди, было слез, и объятий, и горя…
Я хотела написать эту печальную повесть от лица Маниной сестры, у меня даже была придумана форма повести — я еду в поезде из Ленинграда в Пермь и от станции до станции, по кусочкам, какая-то женщина еще молодых лет рассказывает мне Манину историю, и я даже специально поехала в Пермь, чтобы записать названия всех станций и их вид, но почему-то из этой поездки окончательно сформировался рассказ «Володя», а та повесть так и не написана, возможно — и не будет написана. Пусть же хоть в этой маленькой заметке останется история бедной маленькой женщины, сбитой с толку и бессмысленно сломавшей свое маленькое, но ясное и верное счастье.
ФЛОРЕНЦИЯ В монастыре св. МаркаВошли так обыденно, по билетикам, в деревянные ворота. Ступили на плиты дворика. В глубине его был каменный колодец с крышкой, как мельничный жернов, рядом одиноко росло старое дерево. С трех сторон вокруг дворика висели легкие галереи. Может быть, сам Савонарола ходил по ним, взглядывая вниз на колодец, на дерево, на темные фигуры монахов, пересекавших двор. Может быть, долетали до него сюда городские шумы с площадей, на которых по его слову сжигали на кострах картины и рукописи, музыкальные инструменты и роскошные ткани.
Нас повели в его келью. В маленькой его спаленке мы видели кусок власяницы, которою он умерщвлял свою плоть. В соседней комнатке стоит стол, у которого он писал свои проповеди и поверял монастырские счета.
«Так проходит мирская слава». По его слову драгоценные картины превращались в золу и прах. По его слову — повели он — некоторые и сами кинулись бы в огонь. Он не повелел им, сгорел сам, мученичеством оплатив погубленные им творения искусства. К тому месту, где он горел (от монастыря не так уж далеко), сейчас водят туристов.
Должно быть, все правильно. Должно быть, нельзя ни принуждением, ни уговором заставлять людей губить прекрасное. Люди губят-губят да и начинают задумываться о ценности прекрасного, погубленное вырастает в их глазах. Савонарола не подумал, как опасно приучать слабого человека слагать костры для сожжения. Как опасно приучать людей не щадить ничего. Они не пощадили и его, изувера, истребителя, опасного фантазера, вздумавшего играть с огнем.