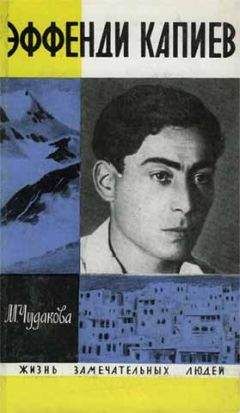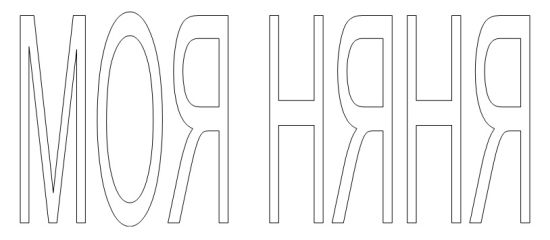Ненавязчивый осенний ветер царапает мое окно. Мягкий комок застревает у меня в горле. Мне грустно!» Его интенсивная, целеустремленная работа — уже не отроческие попытки — началась именно здесь, в этом ауле, началась, в сущности, наедине с собой.
С 25 октября 1928 года он начинает вести дневник. Он не только почти ежедневно делает записи, но одновременно стремится выстроить из них нечто целостное. То он называет это «Дневником юного педагога», то «Мемуарами юного педагога».
Жизненные впечатления осваиваются им в это время не только в чисто литературном плане. В дневнике его — разнообразные размышления над методикой преподавания русского языка в нерусских школах, собственные педагогические выводы, этнографические наблюдения (он описывает, например, кумыкские свадебные обряды). По вечерам, после занятий в школе, он записывает рассказы стариков и пытается составить «Историю аула Аксай».
И прошлое народа, и его настоящее лежало перед ним Дети горцев шли в школу, он учил их русской грамоте — учил не так, как учили корану, а так, чтобы сделать понятной им русскую речь и русскую литературу.
Вот утро, и Эффенди по узким улицам, или скорее тропкам, аула торопится в школу.
Аульский щеголь (попавший потом в записную книжку Капиева), «пьяный, папаха набекрень», преграждает дорогу девушке.
«— Эй, выйдешь ты за меня или нет?!. Змея!..
Девушка (с кувшином на плече) ждет, опустив глаза, пока освободится тропа. Лицо ее величаво, спокойно…»
Дальше навстречу учителю на узкой аульской улице попадается набожная старуха. «Она вскидывает на меня сердитые глаза и говорит: «Малун», — что означает «дьявол», «нечистая сила», но дорогу уступает.
Юноша говорит с девушкой, и она шепчет ему:
«— Отойди немного, а то что люди скажут?»
«Старик, помогая женщине перелезть через канаву, подает ей руку, обмотав ее в полу бешмета. Это для того, чтобы не нарушить намаза. (Прикосновение голой рукой не только к женскому телу, но и к женской одежде уже нарушает целомудрие, необходимое для молитвы, и правоверный должен совершить новое омовение)» Взрослые уже работают; в ауле остаются одни старики и маленькие дети. Они-то и ведут друг с другом разговоры, полные своеобразного, порой грубоватого юмора. «На аульской улице дряхлый старик, шутливо останавливая малыша, обращается к нему громко:
— Эй, ты, беги скорей домой: там в задницу твоего отца лисица забралась — один хвост торчит наружу.
Мальчик изумленно:
— Не может быть! Я же только что оставил его сидящим за работой!
Дед хохочет, продолжая свой путь, довольный шуткой».
Постепенно старики выходят из своих дворов, стоят у ворот, опираясь на посохи, чинно беседуют между собой. Молодой учитель уважителен со старшими. Он первый здоровается с ними. Но сам не начинает разговора. Изредка он все же вынужден вступать с ними в спор.
«Мусульманский великий пост — ураза. Я курю. Встречный мулла, сурово оглядев меня:
— Тьфу, бессовестный! Ураза, а он курит.
— А почему же нельзя курить?
— Пророк не велел. Вот почему.
— Ты ошибаешься, мулла. Это недоразумение. Ведь пророк умер тысячу триста лет назад, а Америка открыли всего лишь с лишком четыреста лет… Пророк не мог знать о табаке. Табак привезен из Америки.
— Пророк все знал наперед!»
В классе учеников немного. Школьная обстановка для них непривычна. Они чувствуют себя в ней то скованно, то слишком свободно.
«На уроке через весь класс один другому:
— Абдул-Хаки-и-им!.. Я завтра принесу бутылку — нальешь чернила?
— Хорошо».
Ученики сидят в классе в верхней одежде и, выйдя К доске, «стирают написанное полой бешмета или своей папахой…»
Капиеву приходилось помогать в проведении аульских собраний, на которых разъяснялись задачи начинавшейся в то время в Дагестане коллективизации. Об этом он тоже делает короткие записи, в немногих словах рисующие специфическую обстановку этих собраний — столь необычных для жизни аула, замкнутой в строгие, веками сложившиеся формы.
«— Вопросы есть? — кричу я на аульском собрании.
Молчание. Только древний старик с красными, провалившимися глазами и тонкими усами, завозившись на последней парте (собрание происходило в школе), отвечает:
— Если б знали, как тебе задавать вопросы, а то не знаем».
Среди записей, сделанных Капиевым в эти годы, некоторые удивительно колоритны и многое открывают человеку, вовсе незнакомому с жизнью Дагестана тех лет.
«Тайное голосование в горах. Избирателю объяснили:
— Вот войдешь в комнату — там никого, кроме тебя, не будет. Если тебе по душе, чтоб этот человек был председателем, ты бросишь белый камень, если нет, то черный. Понял?» (Аул был поголовно безграмотный, и потому решено было вместо листков бросать в урну камни.)
«— А что? — воскликнул избиратель (сухощавый, гордый лезгинец). — Я боюсь, что ли, кого-либо, чтобы прятаться? Пусть он мне глаза выколет, если я спущу этому негодяю! Это же трус! — И подняв камешек: — Эй, джамаат[4], этот человек — сукин сын! Смотрите, я кладу ему черный камень, ничего не боясь. Так делайте и вы!..
И все последовали его примеру. Брали черные камешки и открыто клали в кувшины. Так ничего и не вышло из тайного голосования».
За эпизодом, описанным как курьез, перед читателем встает время, и быт, и резко очерченный национальный характер.
Ни одного рассказа из своего «Дневника» Капиев не напечатал, как и все остальное, что он написал в ближайшие годы. Это были годы по-настоящему изнурительного труда. Все, вышедшее из-под его пера, самого его не удовлетворяло. Все многократно переделывалось и все равно оставалось в тетрадях, далее не шло. Промучившись как-то два месяца над одним рассказом, забраковав семь его вариантов, Эффенди написал обстоятельную «Самокритику». Среди многочисленных пунктов — упреков и советов самому себе — иные особенно любопытны. Например: «Нужно создать во что бы то ни стало (курсив здесь и в последующих цитатах наш. — М. Ч.) эмоциональную напряженность в повествовании».
Слова об «эмоциональной напряженности повествования» довольно много говорят о профессиональной подготовленности молодого литератора. Он уже многое понял. Ему уже явно мало хорошего знакомства со своим материалом и добросовестного его изложения. Он думает теперь о самом существе литературного творчества — о том, какими путями «правда жизни» превращается в литературу.
Уровень требовательности к своей работе у писателя или ученого обыкновенно более или менее соответствует его реальным возможностям — тому, что может дать этот писатель или ученый в данный момент своей жизни. Неопытному литератору трудно отнестись к себе так же строго, как мастеру, — в какой-то момент написанное начинает ему все-таки нравиться, и только критика со стороны вдруг открывает ему глаза на его слабости.