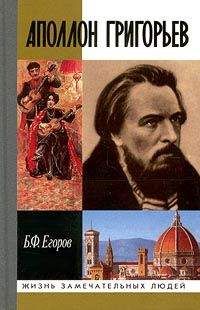«Заседания» кружка обычно проходили в григорьевском доме, в мезонине (как правило, через воскресенье). Молодежь шумела; очевидно, звуки громких споров разносились по всему дому, но родители были терпимы к гостям: слава Богу, Полошенька не пропадает где-то в неизвестности, а принимает дома хороших товарищей. Как вспоминал Фет: «Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками».
Молодые люди, естественно, не могли целый вечер углубляться в философские дебри, перемежали серьезные разговоры шутками и пародиями. Недалекий Чистяков остроумно демонстрировал, упирая один в другой указательные пальцы, как борются между собой субъект и объект. А талантливый А.В. Новосильцев, зять чинуши Д.П. Голохвастова, помощника попечителя Московского учебного округа, развивал «гегелевскую» мысль, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьма, казарма, скотный двор, и его родственник приставлен к университету в качестве скотника. Новосильцев вообще любил пародийные триады: по его классификации дураки делятся на простых, важных и утонченных.
Философские увлечения Григорьева относятся к его ранней университетской поре, главным образом, к первому и второму курсам, к началу третьего. Потом их оттеснили литература и театр. Здесь большую роль сыграла дружба с Фетом, равнодушным к философским занятиям, зато целиком погруженным в мир поэзии.
Благодаря счастливой случайности Фет оказался сожителем Григорьева, а потом, на закате своего писательского пути оставил ценные воспоминания о юности «Ранние годы моей жизни», благодаря которым мы и знаем о Григорьеве студенческой поры. Знакомство двух поэтов произошло так. Сын помещика Орловской губернии Афанасий Афанасьевич Шеншин (вынужденный носить фамилию матери Фет, так как он, подобно Григорьеву, появился на свет до официального брака родителей) с 1837 года жил в частном пансионе М.П. Погодина, готовясь к поступлению в университет, там же он продолжал находиться первые полгода студенчества, до нового 1839 года. Еще до поступления Фет слышал от пансионного учителя истории И.Д. Беляева хвалебные отзывы о его частном ученике Аполлоне Григорьеве, тоже подготавливаемом к университету. Когда стал студентом, Фет познакомился с Григорьевым, у них оказались общие интересы — оба писали стихи, — и Фет стал бывать в доме Григорьевых. Ему очень понравилась домашняя обстановка, сам он тоже понравился старшим Григорьевым; а так как они, видимо, страшно боялись, как бы Полошенька не попал под чье-либо дурное влияние, то решили закрепить дружбу молодых людей и предложили Фету переехать к ним жить.
Он, конечно, тоже был рад такой возможности: предстояло постоянное общение с товарищем, да еще он давно хотел покинуть пансион, где из-за скупости Погодина и его матери, реальной правительницы пансиона, очень плохо кормили. И Фет стал просить отца договориться с родителями Аполлона о таком переезде; старший Шеншин специально приехал в Москву, убедился, что семья Григорьевых заслуживает уважения и симпатии, и родители быстро договорились об условиях. Фету предоставлялась южная квартирка в мезонине, та самая, которую совсем недавно занимал злополучный француз-гувернер, юноша становился полным нахлебником семьи, и отец его платил хозяевам всего триста рублей в год (учитывалось еще отсутствие студента во время зимних и летних каникул). А в северной квартирке жил Григорьев.
Молодые люди были очень рады такому сожительству на антресолях. Для Аполлона, помимо совместных поэтических интересов, появление постояльца открывало, хотя бы щелочкой выход в мир. Родители так обожали своего ненаглядного Полошеньку, что деспотически держали его в домашней тюрьме, даже в его студенческие годы! С большим трудом ему удавалось отпроситься на вечер к сокурснику Я.П. Полонскому, тоже будущему знаменитому поэту. Но, как вспоминал Полонский, в 9 часов вечера у подъезда уже стояли сани — приехал Василий – и Аполлон прощался: «Нельзя!» А уж о театрах и говорить чего, их Аполлон мог посещать лишь с родителями. Появление Фета спасало узника: с надежным товарищем сына отпускали и в театр, и в цирк, и на вечера к друзьям.
Однако пребывание друга в доме имело и оборотную сторону. Фет, весь погруженный в стихотворство, ненавидел учебу, пропускал занятия, перед экзаменами лихорадочно спохватывался, что-то успевал освоить, но все-таки на трудных предметах (политэкономия и статистика, греческий язык) проваливался, дважды оставался второгодником, поэтому закончил университет не в 1842 году, как Аполлон, а в 1844-м. Стало легендой, что, уже будучи солидным помещиком и семьянином, Фет, бывая в Москве и проезжая мимо университета, всегда открывал окно кареты и плевался в сторону здания…
Вольный бездельник, естественно, был плохим напарником погруженному в науки Григорьеву. Сам Фет откровенно признавался в воспоминаниях, что ему постоянно хотелось помешать заниматься соседу-товарищу. Он лез с разговорами, демонстрировал товарищу разные «спортивные» фокусы, освоенные в пансионе (например, схватить товарища за кисти рук, своими большими пальцами прижимая ладони жертвы, и быстро вывернуть его руки вверх-наружу — жертва из-за наступающей боли бессильна сопротивляться). Позднее Фет еще более коварно вмешивался: когда Григорьев стал фанатически религиозен и мог в церкви на коленях молиться чуть ли не до кровавого пота, Фет подползал рядом и начинал нашептывать другу какие-то дьявольские соблазны…
Но все это искупалось поэтическим общением. Фет донес до нас сведения о самых ранних стихотворных опытах Григорьева, который — любитель аффектов и эффектов — падал на колени и с выражением декламировал свою стихотворную драму «Вадим Новгородский», написанную торжественным пятистопным хореем:
О земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И те три года за целый век
Показались мне, несчастному.
Ироничный Фет, уже в те юные годы бывший значительно более зрелым поэтом, чем его друг, написал язвительную эпиграмму:
Григорьев музами водим,
Налил чернил на сор бумажный
И вопиет с осанкой важной:
Вострепещите! — мой Вадим.
Григорьев сам чувствовал вымученность своих ранних стихотворений, тяжело переживал неудачи и сочинял более искренние и менее напыщенные строки: