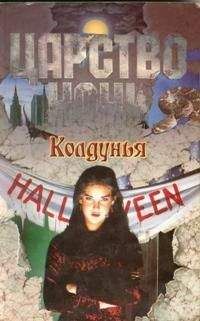– Ну, теперь можете смотреть!
И мы продолжали разговор – конечно, о своей работе. Таня была в то время секретарем Пересыпского райкома, Рафа – Молдаванского, а Костя – Привокзального. Так что говорить было о чем.
… Пришло время и Дому рабочей молодежи на углу улиц Карла Маркса и Жуковской приобрести благообразный вид. Лестницу принялись мыть, ванны – употреблять по назначению. Шинелью уже не укрывались.
Появились первые семейные пары. В нашем доме первыми стали Рафа с Марусей и Боря Зильберштейн с Эммой. Эммочка Лубоцкая была очень хороша собой. Высокая, величавая, она неизменно играла королеву в часто повторявшейся у нас оперной инсценировке, где влюбленного пажа, как водится, казнят по приказу ревнивого короля. Пела она хорошо, роль королевы шла ей, словно специально для нее писалась.
Боре с Эммой отвели квартиру на той же лестнице, где помещался губком комсомола. В их квартире мы чувствовали себя не в гостях, а дома. Хозяйство вела бабушка. Кем она им приходилась, не знаю, все звали ее бабушкой. Белая, как лунь, маленькая женщина бесшумно передвигалась по комнате. Она усаживала за стол каждого, кто приходил к ее детям, она помнила всех по именам – особенно тех, кто во времена деникинского подполья приходил на явку в ее жилище, бедное жилище плакальщицы еврейского похоронного братства. Обмывая покойников, бабушка хранила веру в жизнь. Она пережила Борю. И еще многие из тех, кого она прятала в годы подполья, умерли раньше нее, оставшись в ее памяти такими, какими она их знала.
Жизнь Эммы с Борей проходила на наших глазах. Она была прозрачна и чиста, никому даже в голову не могло прийти, что они, возможно, и вздорят иногда. Эмма с Борей? Выдумки, быть не может! Эмма не выходила замуж ни тогда, когда Борю посадили на долгие годы в тюрьму, ни после его гибели. Но вот его посмертно реабилитировали, а Эмму не признали его женой: свой брак они не регистрировали.
… Однажды я выбрал тихий зимний вечер и попросил Еву выйти на минуту из клуба. В подъезде я сказал: "Нам уже пора жениться". Она рассудительно ответила, что лучше подождать – ну хотя бы год, пока она будет учиться в губернской партшколе. Принципиально же она не возражает. Даже в любовном объяснении она действовала принципиально.
Ее направили в партийную школу. В детстве Ева не училась – отец ее, умерший в начале революции, был беднейший из бедных еврейских портных. Детей осталось семеро. С колыбели не знавшая светлого дня, Ева обладала скрытным и угловатым характером. Но я любил, этого достаточно. И каждый вечер, после рабочего дня и клубных занятий, я шел пешком от джутовой фабрики до Садовой улицы к ней в школу.
Трамваи еще не ходили. К тому времени Рафу, меня и Марусю (неразлучная троица!) перевели из Молдаванского района в Привокзальный. Я работал на джутовой фабрике – рабочим в цехе и секретарем комсомольской ячейки.
Освобожденных от производственной работы секретарей тогда еще не было. На производство я пошел с легким сердцем. Многие из нас, бывших гимназистов, считали своим долгом идти на производство, чтобы "провариться", кроме комсомольского, еще и в рабочем котле. Мне и сейчас это желание не кажется странным. Физический труд укрепляет не одну лишь мускулатуру. В те годы работать физически не называлось "ишачить", это словечко появилось значительно позже. Мы нашей работой гордились.
Рабочий, занятый общественной деятельностью, не может не сравнивать себя с людьми, занятыми, собственно, той же общественной деятельностью (но в расширенном размере), которой он бесплатно отдает свои свободные часы. И чем шире вовлекаются рабочие в государственную работу, тем виднее становится всякая несправедливость в оплате физического труда и государственной деятельности.
* * *
Мои сутки делились на три неравные части. Наибольшая – фабрике и районному клубу, средняя – пешему хождению и торопливой еде, наименьшая – моей любви. Свидания происходили так: запыхавшись, с разбегу влетаю в комнату, где сидят за книгами курсантки партшколы. Мне молча уступают кусочек стола рядом с Евой. Вполголоса обмениваемся несколькими словами, и она снова углубляется в книгу.
– Ответь мне, – вдруг говорит она, – на такой вопрос…
С трепетом жду, что она спросит, люблю ли я ее. Нет, она интересуется формулой "товар-деньги". Растолковываю в меру своих куцых знаний и снова жду: когда же она задаст самый важный вопрос?
А она не спрашивает, и невозвратные минуты улетают в шелесте страниц. Девушки одна за другой захлопывают книги и вопросительно смотрят на Еву. Но я притворяюсь, что страшно занят формулой "товар-деньги" и придвигаюсь к ней (не к формуле, а к Еве), заглядывая через теплое плечо в книгу. Резкое движение, она встает:
– Ну, хватит, тебе пора домой!
Она соглашается проводить меня – не дальше лестницы. На площадке иногда удается украсть поцелуй.
И так – каждый день. Поистине влюбленные достойны рая, если они ежедневно, в любую погоду шагают шесть километров по мощеным булыжником улицам за одним проблематичным поцелуем… А утром, чуть свет – бегом на фабрику.
Комсомольцы моего нового района чуть отличались от комсомольцев Молдаванки. Чего-то им, с моей тогдашней точки зрения, не хватало. Может быть, прямолинейной жесткости, которую мы наивно считали тогда составной частью высокой идейности. Со стороны эта прямолинейность бывала даже похожа на нарочитость – порой я видел ее и в Еве – но она не была нарочитой. Такой выработался стиль жизни, стиль поведения.
А нравы привокзальных комсомольцев были несколько иными. В комсомольском клубе на Степовой (где помещался Привокзальный райком), просто не успели еще выработаться свои обычаи. В прежнем моем районе, Молдаванском, они были – давние и строгие. Например, гулянье влюбленных по улицам Молдаванки не то, чтобы не одобрялось – его просто не было, и конечно не потому, что Прохоровская улица узка. А на Степовой всегда гуляли – и не потому, что она широкая. Может, причина в том, что Молдаванский район обосновался значительно раньше – в 1917 году – и пережил подпольные времена. А может, и в том, что 22 год уже сильно отличался от 20-го.
Но все это были мелкие различия, не определявшие главного. Главным же в ощущениях тогдашнего комсомольца было, мне кажется, предчувствие каких-то новых, невиданных свершений, предстоящих мне, тебе, каждому. Они будут очень значительны! И они произойдут только благодаря моей, твоей, каждого из нас причастности к миру борющихся, эксплуатируемых, голодных.
Устремленность в грядущее, чувство личной причастности к мировой революции, готовность разделить всю ответственность за нее, которая вот-вот явится, – вот что возвышало нас, укрепляло в самом обыденном деле. Словно ждешь поезда, который увезет тебя куда-то к великой цели, и радостно вслушиваешься в отдаленный свисток… И вот уже явственно слышишь – рельсы гудят… Рельсы гудят! Разве не замечаете вы этого, как ныне говорят, подтекста, во всех действиях и словах Павла Корчагина[13] или в испанской грусти украинского хлопца из светловской «Гренады»?[14]