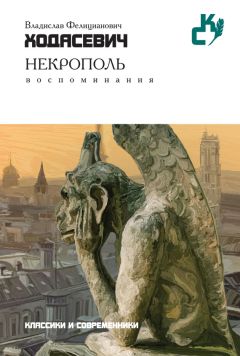– В качестве одного из редакторов «Русской Мысли», я в политических вопросах во всем согласен с Петром Бернгардовичем (Струве).
Впоследствии, накануне Февральской революции, в Тифлисе, на банкете, которым армяне чествовали Брюсова как редактора сборника «Поэзия Армении», он встал и, к великому смущению присутствующих, провозгласил тост «за здоровье Государя Императора, Державного Вождя нашей армии». Об этом рассказывал мне устроитель банкета, П. Н. Макинциан, впоследствии составитель знаменитой «Красной книги В. Ч. К.». (В 1937 г. он был расстрелян.)
* * *
Демократию Брюсов презирал. История культуры, которой он поклонялся, была для него историей «творцов», полубогов, стоящих вне толпы, ее презирающих, ею ненавидимых. Всякая демократическая власть казалась ему либо утопией, либо охлократией, господством черни.
Всякий абсолютизм казался ему силою созидательной, охраняющей и творящей культуру. Поэт, следовательно, всегда на стороне существующей власти, какова бы она ни была, лишь была бы отделена от народа. Ему, как «гребцу триремы», было все равно,
Все поэты были придворными: при Августе, Меценати, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае I и т. д. Это была одна из его любимых мыслей.
Поэтому он был монархистом при Николае II. Поэтому, пока надеялся, что Временное правительство «обуздает низы» и покажет себя «твердою властью», он стремился заседать в каких-то комиссиях и, стараясь поддержать принципы оборончества, написал и издал летом 1917 года небольшую брошюру в розовой обложке, под заглавием «Как кончить войну?» и с эпиграфом: Si vis pacem para bellum. Идеей брошюры была «война до победного конца».
После «октября» он впал в отчаяние. Одна дама, всегда начинавшая свою речь словами: «Валерий Яковлевич говорит, что», в начале ноября встретилась со мной у поэта К. А. Липскерова. Когда хозяин вышел из комнаты распорядиться о чае, дама опасливо посмотрела ему вслед и, наклонясь ко мне, прошептала:
– Валерий Яковлевич говорит, что теперь нами будут править жиды.
В ту зиму я сам не встречался с Брюсовым, но мне рассказывали, что он в подавленном состоянии и оплакивает неминуемую гибель культуры. Только летом 1918 года, после разгона Учредительного собрания и начала террора, он приободрился и заявил себя коммунистом.
Но это было вполне последовательно, ибо он увидал пред собою «сильную власть», один из видов абсолютизма, и поклонился ей: она представилась ему достаточною защитой от демоса, низов, черни. Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом, ибо не все ли равно во имя чего – была бы власть.
В коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое, с его точки зрения, было, пожалуй, и лучше старого, так как Кремль все-таки оказался лично для него доступнее, чем Царское Село. Ведь у старого самодержавия не было никакой официально-покровительствуемой эстетической политики, – новое же в этом смысле хотело быть активным. Брюсову представлялось возможным прямое влияние на литературные дела; он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность «направлять» литературу твердыми, административными мерами. Если бы это удалось, он мог бы командовать писателями, без интриг, без вынужденных союзов с ними – единым окриком. А сколько заседаний, уставов, постановлений! А какая надежда на то, что в истории литературы будет сказано: «В таком-то году повернул русскую литературу на столько-то градусов». Тут личные интересы совпадали с идеями.
Мечта не осуществилась. Поскольку подчинение литературы оказалось возможным, коммунисты предпочли сохранить диктатуру за собой, а не передать ее Брюсову, который, в сущности, остался для них чужим и которому они, несмотря ни на что, не верили. Ему предоставили несколько более или менее видных «постов» – не особенно ответственных. Он служил с волевой исправностью, которая всегда была свойственна его работе, за что бы он ни брался. Он изо всех сил «заседал» и «заведывал».
От писательской среды он отмежевался еще резче, чем она от него. Когда в Москве образовался Союз писателей, Брюсов занял по отношению к нему позицию, гораздо более резкую и непримиримую, чем занимали настоящие большевики. Помню, между прочим, такую историю. При уничтожении Литературно-художественного кружка была реквизирована его библиотека и, как водится, расхищалась. Книги находились в ведении Московского совета, и Союз писателей попросил, чтобы они были переданы ему. Каменев, тогдашний председатель Совета, согласился. Как только Брюсов узнал об этом, он тотчас заявил протест и стал требовать, чтобы библиотека была отдана Лито, совершенно мертвому учреждению, которым он заведывал. Я состоял членом правления Союза, и мне поручили попытаться уговорить Брюсова, чтобы он отказался от своих притязаний. Я тут же взял телефонную трубку и позвонил Брюсову. Выслушав меня, он ответил:
– Я вас не понимаю, Владислав Фелицианович. Вы обращаетесь к должностному лицу, стараясь его склонить к нарушению интересов вверенного ему учреждения.
Услышав про «должностное лицо» и «вверенное учреждение», я уже не стал продолжать разговора. Библиотеку перевезли в Лито.
К несчастью, ревность к службе заходила у Брюсова и еще много дальше. В марте 1920 г. я заболел от недоедания и от жизни в нетопленом подвале. Пролежав месяца два в постели и прохворав все лето, в конце ноября я решил переехать в Петербург, где мне обещали сухую комнату. В Петербурге я снова пролежал с месяц, а так как есть мне и там было нечего, то я принялся хлопотать о переводе моего московского писательского пайка в Петербург. Для этого мне пришлось потратить месяца три невероятных усилий, причем я все время натыкался на какое-то невидимое, но явственно ощутимое препятствие. Только спустя два года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я – человек неблагонадежный. Примечательно, что даже «по долгу службы» это не входило в его обязанности.
Несмотря на все усердие, большевики не ценили его. При случае попрекали былой принадлежностью к «буржуазной» литературе. Его стихи, написанные в полном соответствии с видами начальства, все-таки были не нужны, потому что не годились для прямой агитации. Дело в том, что, пишучи на заказные темы и очередные лозунги, в области формы Брюсов оставался свободным. Я думаю, что тщательное формальное исследование коммунистических стихов Брюсова показало бы в них напряженную внутреннюю работу, клонящуюся к попытке сломать старую гармонию, «обрести звуки новые». К этой цели Брюсов шел через сознательную какофонию. Был ли он прав, удалось ли бы ему чего-нибудь достигнуть – вопрос другой. Но именно наличие этой работы сделало его стихи переутонченными до одеревенения, трудноусвояемыми, недоступными для примитивного понимания. Как агитационный материал они не годятся, и потому Брюсов-поэт оказался по существу не нужным. Оставался Брюсов-служака, которого и гоняли с «поста» на «пост», порой доходя до вольного или невольного издевательства. Так, например, в 1921 г. Брюсов совмещал какое-то высокое назначение по Наркомпросу с не менее важной должностью в Гукон, т. е. в Главном управлении по коннозаводству. (Как ни странно, некоторая логика в этом была: самые первые строки Брюсова, появившиеся в печати, – две статьи о лошадях в одном из специальных журналов: не то «Рысак и скакун», не то «Коннозаводство и спорт».) Отец Брюсова, как я указывал, был лошадник-любитель. Когда-то я видел детские письма Брюсова к матери, сплошь наполненные беговыми делами и впечатлениями.)