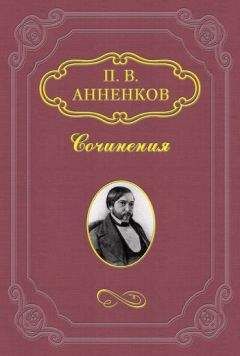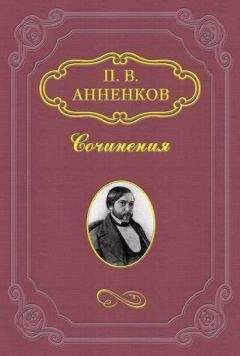Здесь кстати поместить некоторые подробности, с нею связанные: основа ее не была выдумана художником. Писемский встретился с подобным происшествием в 1848 году, будучи еще чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Он имел в руках подлинное дело точно такого же содержания и в качестве следователя, командированного губернатором, принимал участие в его разборе сам. Комедия писалась им летом на даче, близ Петербурга, и случилось, что однажды автор ее встретился на прогулке с актером Мартыновым. Он зазвал его к себе в дом и прочел ему первые три действия ее, тогда написанные. Знаменитый артист пришел в восторг от них и изумил Писемского, выразив намерение взять роль мужа, когда пьеса поступит на сцену. Тогда еще никто не мог угадать в Мартынове призвания на драматические роли, и Писемский выразил свое сомнение; но великий комик настоятельно требовал предоставления ему роли Анания. Кажется, этого не случилось, и Мартынову суждено было показать в других и менее значительных ролях присутствие в себе патетического элемента, которым обладает всякий истинный комик. В заключение Мартынов спросил: «А как ты намерен окончить пьесу?» Писемский отвечал: «По моему плану, Ананий должен сделаться атаманом разбойничьей шайки и, явившись в деревню, убить бурмистра». – «Нет, это нехорошо, – возразил Мартынов, – ты заставь его лучше вернуться с повинной головой и всех простить». Писемский был поражен верностью этой мысли и буквально последовал ей. Так хорошо угадал знаменитый артист сущность пьесы, прозрев законный, необходимый исход ее чутьем истины, присущим всякому истинному таланту[25].
Переехав в Москву, Писемский скоро приобрел качества, отличающие большинство ее обитателей, то есть наклонность к домовитости, с одной стороны, и к скептицизму по отношению к петербургским мнениям вообще – с другой. Правда, скептицизм последнего рода сказывался у Писемского и прежде, как видели, но журнальная буря, выдержанная им в Петербурге, еще укрепила его. Петербургская неудача наложила печать на весь строй его мыслей, на добрую часть всей последующей его деятельности. С нее именно начинается то памфлетическое направление, которое принял Писемский в позднейших своих произведениях. Оно составило господствующую ноту его творчества, за исключением, впрочем, двух произведений: романа «Люди сороковых годов» (1869) и другого, предсмертного, так сказать, романа «Масоны» (1880), которые от него совершенно свободны благодаря близкому личному знакомству автора с живыми типами, в них изображенными. Памфлетическое отношение к сюжетам до того овладело Писемским, что прокралось и в картины отживших порядков, им созданные (трагедия «Самоуправцы», 1867, и «Бывые соколы», 1868), так же точно, как в изображения из современных нравов. Цели и приемы литературного памфлета всегда и везде одинаковы. Они состоят в том, чтобы довести лицо или событие до высшей степени безобразия, какое для них только мыслимо, а все недостающее им до этой позорной апофеозы изобрести более или менее искусно и правдоподобно. На это дело потрачено было Писемским много таланта, юмора и энергии. Комедия его «Ваал», например, – шедевр этого рода произведений, – рисует уже оргию современного хищничества начистоту, почти без литературного прикрытия, с грубостью народного фарса, называющего все предметы по их именам[26]. Но памфлетический образ обработки сюжетов имеет один большой недостаток: он устраняет труд созидания характеров и довольствуется одним выпуклым изображением их главного порока, предоставляя на основании этого документа дорисовывать самые типы воображению читателя. Вместе с тем он увольняет автора и от обязанности раскрывать психические побуждения лиц и заботиться о логическом ходе пьесы: все это становится ненужным, когда успех или влияние произведения зависят только от яркости красок, употребленных на обличение того или другого безобразия. Раз памфлетическое создание вырвало у своих читателей слово негодования и отвращения к изображаемому предмету, которого добивалось и которое оно же им и подсказало, дело его кончено: оно устраняется как вещь, выслужившая свой срок и получившая свою награду. От него ничего не остается, как от обвинительной прокурорской речи после судейского приговора. Не то бывает с дельной художественной сатирой. Процесс ее развития всегда столь же важен, как и ее тема, потому что затрогивает на пути своем основы и духовное настроение общества, а для этого требуется соединение в одних руках большого творческого таланта, политического развития и понимания социальных нужд времени. Такая сатира редко останавливается на очевидных, зияющих ранах общества, предоставляя целение их докторам и советчикам, которые стекутся к пациенту со всех сторон по первому призыву; она преимущественно подвергает диагнозу своему скрытные болезни века, с которыми люди до того сжились, что считают их даже необходимыми условиями своего существования. Ссылки ее на живые примеры и личности далеко не походят на фотографические карточки с подсудимых, какие прилагаются к важным следствиям, а имеют в виду представить наглядные доказательства силы и объема тайного и общественного недуга. Художественная сатира, предостерегая от него своих современников, готовит вместе с тем потомству драгоценный исторический документ для будущего определения нравственного и физиологического положения целой эпохи.
Разрыв Писемского с Петербургом не коснулся старых друзей его, там оставленных. При всяком проезде через Москву они являлись к нему в тот уголок древней столицы, по соседству с Сивцевым Вражком, где Писемский поселился. С 1866 года он уже находился на службе советником Московского губернского правления – месте, предоставленном ему министром-литератором нашим, П. А. Валуевым, вследствие просьбы самого Писемского. Положение нашего автора было теперь упрочено. Каждое новое его сочинение тотчас же приобреталось издателями журналов, особенно новыми, которым имя Писемского служило как бы рекомендацией перед публикой. Перечислив себя окончательно в московские жильцы, он подумал и об устройстве постоянного дома. Маленький купленный им клочок земли он обстроил чистыми наемными помещениями, под собственным своим наблюдением, и с замечательным расчетом пространства и воздуха отвел себе на дворе особый флигель с садиком, отделав его для спокойного жизненного труда очень тщательно. В этом домике мне и случалось проводить долгие часы, которых никак нельзя было назвать потерянными часами. Редкое свойство Писемского – всегда походить на самого себя и класть особую печать своего духа и ума на все предметы обсуждения делало беседы с ним занимательными и оригинальными в высшей степени. Он не потерял способности различать, за тонкой тканью мыслей и слов, настоящее лицо людей и представлять их себе, так сказать, в натуральном состоянии, такими, какими они должны были являться самим себе в своей совести и в своем сознании. Анализ этот, впрочем, нисколько не имел того острого, упорного и надоедливого характера, который не оставляет никакой мелочи без исследования и перевертывает ее на все лады, добиваясь от нее во что бы то ни стало какого-либо слова. Он выражался у него обыкновенно одним метким определением, часто юмористической фразой, которые почти всегда и затеривались в дальнейшем разговоре. Иной раз, слушая Писемского, приходило на ум, что в нем повторяется опять старый московский тип ворчливого туза, удалившегося на покой, но тут была и существенная разница. Тузы этого рода все принадлежали к вельможному чиновничеству нашему и приводились в движение завистью, обманутым честолюбием, злобой после падения их властолюбивых надежд, между тем как Писемский, хотя и мог назваться тузом литературным, но жажды повелевать и кичиться перед людьми никогда не испытывал, чувства зависти не знал вовсе и в своих заметках покорялся единственно природному свойству своего ума.