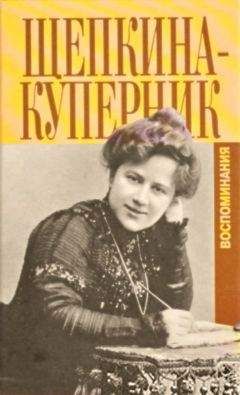Был еще обычай, в слабой форме сохранившийся и до сих пор, служивший поводом к унижению артистов. Они развозили билеты на свои бенефисы по домам богатых людей, которые с лакеем высылали деньги, по большей части с «призом», то есть с надбавкой против обыкновенной цены, и поручали лакею угостить бенефицианта. Так угощал, как знают читатели, Щепкин у графа Волькенштейна актрису Лыкову, так впоследствии угощали и самого Щепкина. В назидание одной юной артистке, возмущавшейся провинциальными похождениями бенефициантов по барским передним, Щепкин однажды рассказал случай из своей жизни. Был он в то время уже известным актером и играл в Москве. Когда дирекция дала ему бенефис, он отправился с билетами. Везде его приняли более или менее вежливо. Но вот приезжает он к одному высокопоставленному лицу. Дальше расскажем словами самого Щепкина:
«Принимает он меня в зале и, не приглашая даже сесть, звонит и говорит вошедшему лакею:
– Отведи господина Щепкина к Аграфене Яковлевне, пусть напоит его кофе!
Я был до того озадачен, что молча поклонился любезному хозяину и последовал за молчаливым камердинером, который и привел меня в столовую, где, по-видимому, только что кончили завтрак и где, кроме экономки Аграфены Яковлевны, уже никого не было. Налила она мне чашку кофе, и ведь я ее выпил, едва справляясь с чувством негодования. Когда же я поуспокоился да поразмыслил, то пришел к заключению, что меня вовсе и не желали обидеть, напротив… Но только форма-то внимания была груба, потому что в этот дом не проникло еще понятие о равенстве, о достоинствах актера-человека. А все же мне было горько и обидно – ведь я тогда был уже признанным артистом и человеком немолодым».
В довершение всех невзгод, провинциальные актеры находились в полной зависимости от произвола местных властей. В те времена были вполне возможны такие случаи, как описанный, со слов М. С. Щепкина, графом Соллогубом в повести «Собачка». Эта повесть, как и другая того же автора и тоже записанная со слов Щепкина («Воспитанница»), очень живо воспроизводит черты закулисных нравов и обычаев странствующих трупп прежнего времени. В «Собачке», по признанию Щепкина, «даже многое смягчено». Суть этой повести в том, что у жены антрепренера была хорошенькая болонка, дорогая по связанным с ней нежным воспоминаниям и дорого обошедшаяся труппе. На несчастье, собачку увидала жена местного полицмейстера и во что бы то ни стало задумала добыть ее. Настроить в этом направлении своего супруга полицмейстерше ничего не стоило. Началась борьба: антрепренерша разве что вместе со своею жизнью хотела отдать собачку, полицмейстерша тоже не могла уже жить без собачки. Но у полицмейстера в руках были сильные средства: он подстроил все так, что театр закрыли будто бы по причине его ветхости, и труппа вынуждена была голодать. Пришлось просить пощады у градоправителя, но теперь он уже не сдался за одну собачку: в придачу к собачке подарили 600 рублей полицмейстеру, шаль его супруге и 400 рублей – архитектору, осматривавшему театр, – и спектакли начались.
И в этом обществе бродяг, говорит автор «Собачки», находился тогда человек, молодой еще, но уже далеко обогнавший всех своих товарищей. В душе его уже глубоко заронилась любовь к истинному искусству, без фарсов и шарлатанства; и уже тогда предчувствовал он, как высоко призвание художника, когда он точным изображением природы не только стремится к исправлению людей, что мало кому удается, но очищает их вкусы, облагораживает их понятия и заставляет понимать истину в искусстве и прекрасное в истине.
Но Щепкин, этот молодой художник, был исключением из всей массы актеров по своему пониманию задач и значения сценического искусства. Превосходство игры тогдашних актеров, по характеристике самого Щепкина, заключалось в том, когда никто не говорил своим голосом, когда игра состояла из крайне изуродованной декламации, слова произносились как можно громче, и почти каждое слово сопровождалось жестами. Особенно в ролях любовника декламировали страстно до смешного: слова «любовь», «страсть», «измена» выкрикивались так громко, как только доставало сил в человеке. Мимика не помогала актеру; физиономия его оставалась в том натянутом, неестественном положении, в каком являлась на сцену. Когда актер оканчивал какой-нибудь монолог, после которого должен был уходить, то принято было в то время за правило поднимать правую руку вверх и таким образом удаляться со сцены. И это, и другие нелепости доставляли зрителям удовольствие. Публика встречала актера неистовыми аплодисментами, если он, чувствуя, что ему предстоит сказать блестящую фразу, бросал того, с кем говорил, выступал вперед на авансцену и обращался с патетической тирадой к зрителям.
Щепкин был совершенной противоположностью таких актеров в отношении к сценическому искусству. Для него «мышление» не было «делом посторонним» и его воззрения на смысл и задачи сценической деятельности были и тогда уже вполне определенными. Главной их основою была цель: переносить жизнь на сцену в художественно-правдивом воспроизведении драматических образов. На помощь мышлению приходил талант, и создания Щепкина и тогда уже отличались от тех шаблонных и мертвых фигур, в виде которых появлялось на сцене большинство его товарищей. Счастливый случай и глубина внутреннего критического анализа почти при самом начале его артистической деятельности заставили его уразуметь всю фальшь и бесплодность игры тогдашних актеров. Первый толчок в этом направлении был дан Щепкину еще в Курске. Ему тогда пришлось увидеть одного актера-любителя, который своею игрой открыл молодому артисту тайны сценического обаяния. Это был тот самый князь Мещерский, который при выпуске Щепкина из училища был невольной причиной гнева учителя рисования. Князь, умный и образованный человек, отличался также талантами художника и актера. Щепкин слыхал об этом и давно хотел посмотреть князя на сцене. Случай к этому представился в 1810 году. Князь Мещерский играл скупца Салидара в комедии Сумарокова «Приданое обманом». По первому впечатлению Щепкину показалось, что князь совсем не умеет играть: он говорил просто, не махал руками и нисколько не походил на «настоящих» актеров. Но чем дальше шла пьеса, тем больше начинал понимать Щепкин сущность игры князя и тем больше начинал увлекаться. Князь раскрывал перед ним внутренние стороны и характер изображаемого лица с замечательной силой и правдивостью: его страдания, звуки его голоса отзывались в душе зрителя.
Когда кончилась пьеса, все хохотали, а Щепкин заливался слезами, что бывало с ним всегда от сильных потрясений. В его сознании начинался перелом во взгляде на игру актера. Хоть и не совсем еще ясно, но Щепкин уже понимал, что князь потому и произвел такое сильное впечатление, что он говорит просто, что он не играет, а живет на сцене. Увлеченный игрою князя, Щепкин страстно захотел играть так же, как и он. Не вставая с места, переписал он комедию, через сутки знал ее на память и начал разыгрывать сам с собою. Но, увы, игра его оставалась старой. Он чувствовал, что он только подражает князю, старается говорить его тоном. Тогда он не мог еще понять, что успех зависел не от подражания, что надо было создавать собственное лицо, найти в самом себе и тон, и звуки, и чувства, чтобы вышел живой образ. Долго искал он в себе этой жизни и естественности; мысли, заронившиеся в его голову после игры князя, продолжали искать исхода. И опять случай помог ему. Репетировали как-то «Школу мужей» Мольера, в которой Щепкин играл Сганареля. Репетиция тянулась скучно, Щепкину не хотелось говорить по-настоящему, и он произносил слова роли обыкновенным голосом. И тут он почувствовал, что сказал несколько слов так, что если б не по пьесе, а в жизни пришлось ему говорить эту фразу, то он сказал бы ее точно так же. Щепкин почувствовал вдруг полное удовлетворение своей игрой и старался сохранить этот тон разговора. Но старания опять приводили его к прежнему тону, опять начиналась неудовлетворенность, хотя другие актеры тогда-то и хвалили его. Им непонятна была бы игра князя Мещерского, и они смеялись бы над Щепкиным, если бы он стал играть, как князь.