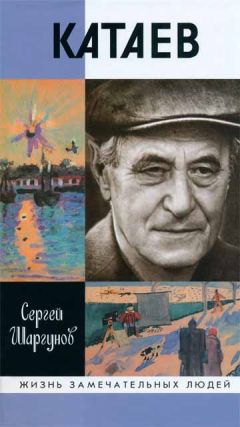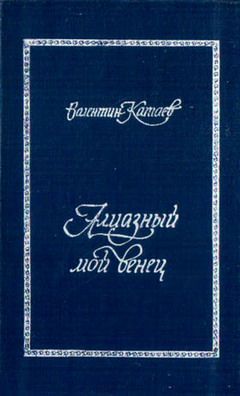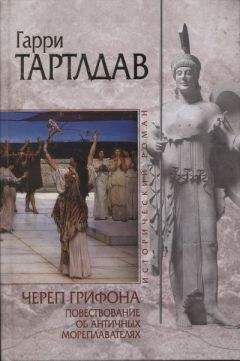Немецкий историк Иоахим Клейн в своем исследовании «Беломорканал: Литература и пропаганда в сталинское время» отзывается об использовании труда заключенных так: «Подобная практика существовала и в других странах, например, chain gangs в США» и называет обратную сторону «произвола и эксплуатации» — «лагерную педагогику»: «В Белбалтлаге существовали многочисленные культурные учреждения — музей, театр, симфонический оркестр, лагерная газета. Она носила программное название “Перековка”: ее задачей было перевоспитать заключенных Белбалтлага в лояльных советских граждан». 5 августа 1933 года газета «Правда» сообщила: 500 заключенных освобождены и восстановлены в гражданских правах, до этого досрочно освобождены 12 484 заключенных (среди них — ученый Дмитрий Лихачев), сокращены сроки заключения 59 516 заключенным.
Несомненно, важнейшей задачей экскурсантов было знакомство с «новым» перевоспитанным человеком, заключенным-каналоармейцем (отсюда слово «зэк», придуманное Коганом). Одним из встреченных писателями зэков оказался знакомый им поэт Сергей Алымов, автор песни «По долинам и по взгорьям», которому вскоре скостили срок и доверили стать соавтором книги. «Сережу прислали таскать тачку по долинам и по взгорьям», — пошутил поэт Александр Безыменский, все засмеялись, а поэт-пе-сенник заплакал.
Авдеенко пересказывал разговор писателей с инженером, хваставшим масштабом как внешних, так и внутренних свершений: «Перековать разнузданных, оголтелых, ожесточенных разгильдяев в армию тружеников! Задача для титанов», но затем признавшим, что он и сам зэк: «Произошло недоразумение, товарищи».
«Инженер ушел на безлюдную корму. Мы проводили его взглядами».
И тут благоговейную паузу прервал циничный комментарий того, кто, пережив в Одессе неоднократную смену властей, быть может, болезненнее всех чувствовал абсурд положения «перековавшегося».
«В напряженной тишине слышится чуть хрипловатый, насмешливый голос Катаева:
— Н-да!.. Черный ветер, белый снег. — Он дернул шеей, наклонил голову к плечу, будто конь, просящий поводья. — Пахнет хлебным романом, братцы! Уж кто-кто, а я, одессит, хорошо разбираюсь в острых приправах».
Мол, мели Емеля, да и чего переживать — на таком сюжете можно неплохо заработать…
Авдеенко продолжал: «Вот писатель, покоривший мое сердце… Катаев шумливый, все время навеселе. Щурится. Разговаривает резко. Нетерпеливо слушает других, часто перебивает. Во всем прежде всего видит смешную сторону. Когда я попытался пропеть дифирамб в честь его книги, он бесцеремонно оборвал меня:
— Разоряетесь, шер ами, мне нечем оплатить ваше низкопоклонство».
Не была ли эта хмельная клоунада — защитной реакцией? Понимал ли Катаев, что от экскурсантов требуется, по выражению Солженицына, «впервые в русской литературе восславить рабский труд»? Или испытал головокружение от грандиозности стройки, поверил в гуманность надсмотрщиков и чудесный катарсис подневольных?
Критик Виктория Шохина предположила даже, что своего Наума Бесстрашного в «Вертере» Катаев писал не только с Блюмкина, но и с чекистов, руководивших Беломорканалом.
Писателей удивило меню ударников (фальшивое): заливное из осетрины, балыки, сыры, ветчина. Похоже, Катаев засомневался в том, что с зэками обращаются по-человечески, и задал начальнику простой вопрос. Об этом — все тот же Авдеенко:
«— Скажите, Семен Григорьич, каналоармейцы часто болели?
— Бывало. Не без того. Человек не железный.
— И умирали?
— Случалось. Все мы смертные.
— А почему мы не видели на берегах канала ни одного кладбища?
— Потому что им здесь не место.
Посуровел веселый и гостеприимный Фирин и отошел.
Задумчиво глядя вслед чекисту, Катаев сказал в обычной своей манере:
— Кажется, ваш покорный слуга сморозил глупость. Это со мной бывает. Я ведь беспартийный, не подкован, не освоил еще диалектического единства противоположностей. Какой с меня спрос?
Прозаики промолчали».
Вот так: даже здесь Катаев бесцеремонно дерзил высокому чекистскому начальству, да еще и подшучивал над новой практикой и идеологией, мол, мы люди пока непривычные к тому, что у вас в «дивном лагере» кладбищ не бывает… «В 37-м это прошло бы как антисоветская провокация (вопрос Катаева) и антисоветская агитация (автокомментарий Катаева)», — полагает историк Немировский. А поэт Сергей Мнацаканян высказал любопытное суждение о «диалектичности» катаевского поведения вообще: «Он откровенно нарывается на неприятности и потому спокойно избегает их. Он ведет себя так не только на Беломорканале в разговоре с Фириным, он постоянно лавирует между неразрешимыми противоречиями — как сегодня, так и через двадцать-тридцать лет, вызывая недоумение одних, непонимание и даже ярость других».
Со скепсисом говорил об окружавшем в поездке и другой бывший белогвардеец — Святополк-Мирский.
А вот и финальный аккорд — последняя дерзость. По-прежнему из мемуара Авдеенко, воспринявшего всё на Беломоре с восхищением и восторгом:
«Прощай, Беломорско-Балтийский! Прощайте, каналоармейцы! Завтра мы уже будем в Москве и разойдемся, разъедемся, кто куда, и неизвестно, суждено ли нам еще раз соединиться вот такой дружной семьей. Грустно. И не только мне. Братья-писатели притихли, запечалились. Допивают последние бокалы дарового вина и прощально, любовно, как кажется мне, вглядываются друг в друга и говорят только хорошие слова.
Фирин озабоченно спрашивает то одного, то другого:
— Ну, как самочувствие?
Каждый отвечает ему с энтузиазмом:
— Хорошо. Прекрасно. Лучше некуда. Спасибо!
Но Фирин еще и еще допытывается, истинно ли мы довольны путешествием. Не прошел он и мимо Катаева:
— Ну, как, Валентин Петрович, себя чувствуете?
Катаев судорожно вытягивает шею из воротника и, сильно щурясь, смотрит на чекиста.
— Неважно я себя чувствую.
На матово-смуглом лице Фирина сквозь вежливую улыбку темно просвечивает удивление.
— Что случилось? Надеюсь, не чекисты виноваты в вашем плохом настроении?
— Именно вы, чекисты, виноваты, что у меня так скверно на душе».
Ох, не отсылка ли к 1920-му, к незабвенному одесскому подвалу?.. Авдеенко продолжает цитировать диалог:
«— Не персонально вы, товарищ Фирин. Вы мне кажетесь милейшим человеком.
Чекист с четырьмя ромбами в петлицах не привык к подобной откровенности. Таращит свои черные глаза на Катаева.
— В чем же мы провинились перед вами, Валентин Петрович?»
Фирин таращился, «и ему представлялось, что он огнем и мечом утверждает всемирную революцию, в то время как неодолимая сила…», да, здесь мы цитируем «Вертера», он изумленно таращился на Катаева, уверенный в праве уморить на стройке многие тысячи заключенных (обычный паек зэка составляли 500 граммов хлеба и баланда из морских водорослей), «а потом он вдруг пронесся мимо черной скульптуры и чаши итальянского фонтана посередине Лубянской площади и понял, что уже никакая сила в мире его не спасет, и он бросился на колени перед незнакомыми людьми в черных, красных, известково-белых масках, которые уже поднимали оружие. Он хватал их за руки, пахнущие ружейным маслом, он целовал слюнявым разинутым ртом сапоги, до глянца начищенные обувным кремом. Но все было бесполезно».