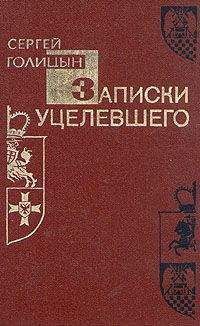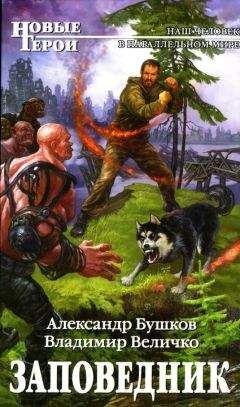Постепенно Ляля Ильинская отходила от нас, в каждую перемену вокруг нее увивались кавалеры, из коих сейчас известным писателем стал лишь Юрий Вебер, в ту пору высокий, непомерно худой, длинноносый юноша. Однако она продолжала сидеть с моей сестрой Машей и со мной на одной скамье. И только Маша и я знали, что ее отец томится в Соловках.
Сблизился с Валерием, а потом и со мной Юрий Гальперин — толстогубый еврейский юноша в прозрачном пенсне на длинном носу. Он был, наверное, самый умный и самый начитанный на всем курсе и, наверное, единственный, кто хотя бы отчасти понимал Шпета. Впрочем, он был настолько самолюбив, что едва ли сознался бы, даже если бы не понимал его лекций. Валерий, Андрей Внуков, я, еще кто-либо на переменах окружали Юрия Гальперина, и тот развивал перед нами разные умные теории на любую гуманитарную тему, а слушателям не давал и рта разинуть.
Он кончил плохо (не любят у нас людей с выдающимся умом): в 1931 году его сослали на Кубенское озеро. Он переписывался с Валерием, потом переписка оборвалась, и он исчез.
Был еще один еврейский юноша — Виктор Певзнер, маленький, кудрявый, похожий на мальчика Христа с картины Поленова. С таким вдохновением смотрели на мир его наивные, восторженные, светлые глаза, что их обладателя можно было назвать только поэтом. Все свое свободное время он сочинял стихи. И на лекциях по политграмоте он тоже писал стихи. Как-то он мне дал их почитать. Не очень они мне показались хорошими — слишком много в них было восторженных восклицаний, но я не стал огорчать юного поэта… Куда он потом делся, не знаю.
К Ляле Ильинской льнули не только кавалеры, но и девушки. Была очень бойкая Лида Цукерман, которая впоследствии исчезла в лагерях. Была очень красивая, рослая Женя Буромская, впоследствии обольстившая старика шекспироведа Мику Морозова, и тот отрекся от своей жены. Была дебелая блондинка Наташа Дорошевич, дочь известного журналиста. Она потом работала в "Journal de Moscou", где ее очень оценили. К сожалению, она рано умерла. Была еще тоненькая, длинношеяя Таня Сикорская, которая впоследствии стала поэтессой. Во время войны она была в эвакуации вместе с Мариной Цветаевой и, по слухам, в связи с ее смертью что-то знала.
Те, кого я назвал, были студентами серьезными, ходили на все лекции, свободные часы проводили в библиотеках, стремились получать как можно больше знаний.
Но были студенты, которые хотели стать поэтами и писателями не после окончания ВГЛК, а в том же году, пока они молоды и полны творческих сил.
В те времена в литературном мире существовало несколько объединений: РАПП — Российская ассоциация пролетарских поэтов, которой покровительствовали власти; «Кузница», "Перевал", «Леф», "Серапионовы братья", еще какие-то. Чем эти объединения отличались друг от друга — знают литературоведы, а я могу сказать, что члены их ожесточенно спорили между собой, даже враждовали, даже писали друг на друга доносы. А кроме того, они зазывали к себе наших студентов, и некоторые из них, в ущерб занятиям, шли на их собрания, а потом с увлечением рассказывали об этих спорах-дискуссиях. Но происходили дискуссии по вечерам, в часы лекций, и потому большая часть студентов оставалась в стороне от споров. Позднее членов группы «Перевал» посадили.
Еще были у нас активисты-общественники, немногие коммунисты и более многочисленные комсомольцы — члены редколлегии стенгазеты, разных комиссий, студкома. Среди них выделялся Данилов, красный командир с одним ромбом, который был значительно старше всех нас. Его выбрали председателем студкома, то есть самым главным из студентов. Учился он на нашем курсе, и потому я мог издали постоянно его наблюдать. Деревянное бритое лицо, оловянный взгляд маленьких глаз, никогда не улыбавшиеся тонкие губы, тихий голос, тугой ворот военной гимнастерки. А на гражданской войне такой деревянный человек, наверное, сам, не колеблясь, расстреливал пленных и раненых белогвардейцев. Я его боялся просто инстинктивно, избегал с ним встречаться. И вдруг он сам подошел ко мне и сказал, глядя куда-то вбок:
— Хотел с вами поговорить.
От страха душа у меня ушла не просто в пятки, а сквозь них в паркетины пола. Я ждал вопроса: "Вы, случаем, не из князей?"
Нет, он спросил меня совсем о другом. Нашим активистам-общественникам зачастую некогда было ходить на лекции: то их вызывали в райком на заседания, то они разрисовывали стенгазету, то отправлялись по партийным и комсомольским поручениям. Словом, от занятий они отставали.
Однажды кто-то из активистов попросил у меня на воскресенье общую тетрадь, в которой я записывал лекции, затем попросил еще раз и еще. А я действительно успевал бегло записывать карандашом основные мысли очередного лектора, в том числе и по политграмоте, и почерк у меня о ту пору был относительно разборчивый. Словом, я постоянно отдавал кому-либо свою общую тетрадь. Одна из них до сих пор у меня цела. И кто-то порекомендовал меня Данилову.
С того времени каждую субботу вечером я молча вручал ему тетрадь, а в понедельник он мне ее с кратким кивком головы возвращал. Я был очень доволен, что у меня завязались такие отношения со всесильным председателем студкома, который мог сделать со мной все что хотел, вплоть до «посадить». А тут как раз пошли толки о засорении кадров. В стенгазете появилась поганенькая статейках о чуждых элементах, не достаточном проценте потомственных рабочих и крестьян.
Я надеялся, что Данилов в случае каких-либо неприятностей заступится за меня и за сестру Машу…
А тут произошла дурацкая история.
Ляля Ильинская хорошо рисовала, и на одной из страниц моей общей тетради изобразила не более, не менее как ангела, в точности такого, как на иконах Благовещенье, — с крыльями, в длинной одежде, с лилией в руках. Я этот рисунок не заметил и в субботу отдал тетрадь Данилову.
В понедельник, возвращая тетрадь, он мне холодно указал на рисунок:
— Советские студенты не должны даже думать о том, что мы отвергли навсегда.
Я отошел, весь красный от ужаса, вырвал злополучный листок и спустил его в унитаз. А в следующую субботу Данилов, как обычно, взял у меня тетрадь и продолжал ее брать до конца учебного года.
Еще одна история. Учился на нашем курсе некто Зубков, маленький, плюгавенький. Однажды вскоре после начала занятий он подошел ко мне и вкрадчивым голоском спросил меня, не из Бучалок ли я.
Я ответил утвердительно. Он сказал, что тоже из тех мест и помнит моего отца, который был самым богатым помещиком во всем Епифанском уезде. Я возразил, что мой отец никогда никакой землей, никаким домом не владел.