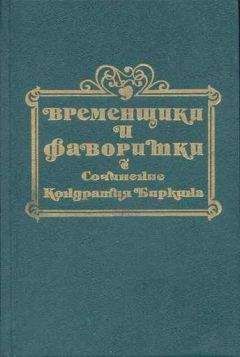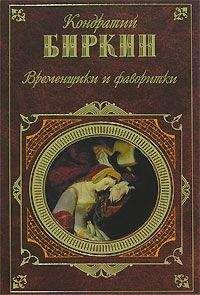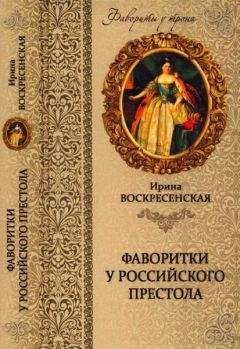Дав себе клятву отомстить королеве, коадьютор, выйдя из дворца, подтвердил толпившемуся у подъезда народу, что Новион, Бланмениль и Бруссель непременно будут освобождены. Глубокая тишина воцарилась в городе, недавние мятежники мирно разошлись по домам; буря народная миновала. Обиженный, взбешенный Ретц возвратился домой и не успел сесть в кресло и собраться с мыслями, как к нему явился Монтрезор, друг покойного Сен-Марса, вечный и неизменный приверженец оппозиции и заклятый враг тирании.
— Отличились вы сегодня! — сказал он коадьютору с насмешливым поклоном.
— Чем?
— Тем, что два раза забегали к королеве. Много вы этим выиграли?
— Выиграл то, что исполнил долг коадьютора и честного человека.
— И воображаете, что ее величество вами довольна?
— Воображаю.
— Разочаруйтесь. Она, лишь только вы вышли за дверь, объявила госпожам Навайлль и де Моттвиль, что вам потому удалось усмирить бунт, что вы сами были подстрекателем. Понимаете? Королева уверена, что вы нарочно затеяли кутерьму, чтобы после похвалиться заслугой… Одним словом, что вы разыграли комедию.
Ретц хотел ответить, но на пороге показался Лэг, капитан гвардейцев герцога Орлеанского. Коадьютор спросил его, правду ли говорит Монтрезор?
— Истинную правду, — отвечал Лэг. — Я только что слышал это же самое за ужином у королевы. Над вами смеются все и говорят, что, думая удивить весь двор трагедией во вкусе Корнеля, вы его потешили балаганной арлекинадой.
— За которую, — досказал Монтрезор, — завтра же будете посажены в Бастилию.
Как будто по условию, в комнату коадьютора вошел третий гость, давнишний его приятель д'Аржантейль.
— Вы погибли! — сказал он Ретцу. — Де ла Мейлльере поручил мне сказать вам, что королева, кардинал и, разумеется, весь двор уверены, что бунт затеян вами. Поговаривают о том, чтобы арестовать вас сегодня ночью, а на заре отвезти в Кемпер-Корентен, Брусселя — в Гавр-де-Грас, а парламент — в Монтаржи.
— И они воображают, что народ позволит им это! — воскликнул коадьютор.
— Народ? — усмехнулся д'Аржантейль. — Народ спит, а завтра проснется, как пьяница после попойки, т. е. смирнее обыкновенного. Самая эта тишина города после недавней бури служит главным против вас обвинительным пунктом. Завтра, кроме вас, переберут зачинщиков и, чего доброго, десяток-другой перевешают.
— Увидим, увидим, — захохотал Ретц и тотчас же отправил слугу с запиской к казначею Мирону, бывшему вместе с тем и полковником квартала св. Германа Оксерского. Была полночь; Ретц, отворив окно, задумчиво глядел на ясное небо и на спящий город.
— О чем вы думаете? — спросили его собеседники.
— О том, что завтра в полночь я буду хозяином целого Парижа. Коадьютору отвечали хохотом.
Явился Мирон и, поговорив вполголоса с коадьютором, поспешно удалился; Ретц передал ему письмо к аудитору счетной камеры Лепинэ. Минут через пять Мирон возвратился в сопровождении какого-то простолюдина. Последний сообщил Ретцу, что ему на улице удалось подслушать разговор двух гвардейских офицеров, Рюбантеля и Ванна, сговаривавшихся о том, как бы арестовать Мирона и в то же время расположить пикеты от Нового моста до Пале-Руайяля.
— Все это принимаем к сведению! — сказал торжествующий коадьютор. — Сообразно их распоряжениям будем действовать и мы.
Ночной совет в доме Ретца длился до трех часов ночи. Монтрезор, Лэг и д'Аржантейль, каждый со своей бандой, согласились занять в городе позиции, назначенные коадьютором. Мирон растянул до 400 человек вооруженных горожан вдоль по набережной Нового моста; Лепинэ брался по первому сигналу воздвигнуть баррикаду у заставы Сержантов. Ретц уснул на заре, а в шесть часов утра секретарь Мирона доложил ему, что военные пикеты во всю ночь и не показывались; в семь часов два конных отряда выступили к Нельскому мосту, и тогда междоусобная битва в стенах Парижа началась. Д'Аржантейль разбил эскадрон швейцарцев и отнял у него штандарт; Лепинэ занял заставу; Монтрезор и Лэг укрепились на Новом мосту. До тысячи двухсот баррикад было выдвинуто по главнейшим улицам… Овладев без боя домом государственного канцлера Сегье, народ разграбил все найденные там сокровища, переломал мебель, перебил зеркала и стекла. Посланный от Сегье принес нерадостную весть во дворец; тогда королева и кардинал поняли, что народ не шутку шутит. Маршалу де ла Мейлльере было поручено перевести канцлера и его брата, епископа Мо, во дворец. Во время переезда, несмотря на конвой, охранявший путников, народ встретил их на площади Дофина сильным огнем… Шальная пуля раздробила руку дочери канцлера, герцогине Сюлли; камер-лакей, стоявший за каретой, был убит наповал. Анна и Мазарини имели бесстыдство послать нарочного к коадьютору с просьбой об усмирении, но Ретц отвечал, что, не имея на народ ни малейшего влияния, он не может исполнить желание ее величества. Королева грызла ногти от злости; Мазарини трясся как в лихорадке, придворные фанфароны храбрились, не трогаясь с места. К довершению бешенства Анны Австрийской ей доложили о приходе во дворец членов парламента. В кабинет вошел президент, сопровождаемый депутатами.
— Странно и стыдно, господа, — накинулась на них королева. — При покойной матушке принцев крови арестовывали, и вы молчали… Теперь из-за какого-то Брусселя в городе бунт, и вы с бунтовщиками заодно.
— Ваше величество, — отвечал президент, — не время вспоминать былое, а следует подумать о том, чем пособить бедствию народному. Мой совет — отдать узника доброй волей, не заставляя мятежников прибегнуть к насилию.
— Унизить королевскую власть! — вспыхнула королева.
— Вы отвечаете отказом?
— Да, и буду отвечать отказом до тех пор, покуда у меня будут требовать освобождения Брусселя так нагло. Лично я, может быть, и простила бы Брусселя, но уважение к власти королевской не дозволяет мне потакать народному своеволию.
Сказав это, королева удалилась, и депутация вышла из дворца к народу с нерадостными вестями.
— Ах вы мошенники! — заревели тысячи голосов. — Так вы заодно с ними нас морочите? Марш опять во дворец — и без помилования Брусселя не возвращаться!
Вторичное посещение депутатами королевских апартаментов увенчалось желанным успехом: дрожащей от бешенства рукой Анна Австрийская соблаговолила подписать приказ об освобождении Брусселя. Племянник арестанта, показав народу этот документ, объявил, что дядя его завтра же к восьми часам будет в Париже.
— Мы подождем, — отвечали коноводы мятежников, — и всю ночь будем дежурить на площадях. Если же и завтра нас обманут, мы разнесем Пале-Руайяль по камешку, а на развалинах повесим Мазарини!