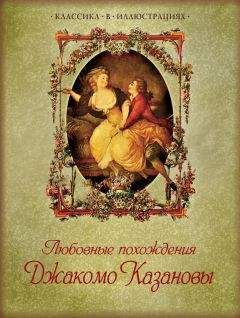------------
Бывший режиссёр из «Лен. Тюза», Саша Народецкий, предложил мне иногда делать передачи о поэзии для украинской редакции «Свободы», где он был редактором.
Сначала я попытался писать их сразу по-украински, но после того, как Народецкий выправил, а точнее переписал за мной почти полностью три передачи, он предложил мне писать по-русски, а по-украински только цитаты вставлять. Лучше уж весь текст перевести, чем править такое количество ошибок! С тех пор мы так и поступали. Я сделал десятка полтора передач об украинской поэзии разных времён, а потом передачи сами собой прекратились за недостатком поэтов.
Зато, когда в начале девяностых я пришел в Москве в редакцию «Огонька», Виталий Коротич, с которым я до того не был лично знаком, поблагодарил меня за радиопередачу о его стихах, сделанную задолго до того. Итак, я убедился, что «скорбный труд» иногда и верно не пропадает…
Иногда…
Когда-то моей однокурсницей по Литинституту была киевлянка Лина Костенко. В те давние времена я перевёл одно её стихотворение, а в 1985 году в «Континенте» опубликовал целую подборку её стихов.
Нам обоим в тот год исполнилось по 55 лет. Года через два после того, как её стихи появились в «Континенте», я выпустил и книжку её избранных стихотворений. Это была, кажется, её первая книжка по-русски. А ведь она, с моей точки зрения, лучший из украинских поэтов-шестидесятников.
Но вот чего я вовсе не ожидал: Лина, как сообщил мне живущий в Париже украинский диссидент Леонид Плющ, была очень недовольна: зачем это её переводят «на жаргон москалей!» Вот до какого идиотизма доводит патриотическая и националистическая зараза! И тысячу раз прав Лев Толстой, сказав, что «Патриотизм есть последнее прибежище мерзавцев».
Из людей, с которыми я был знаком по России, приезжавших в доперестроечное время в Париж, двое не боялись открыто общаться с эмигрантами — это были Булат Окуджава и Андрей Вознесенский.
Как-то раз Андрей приехал вместе с театром (московским Ленкомом) и привёз свою рок-оперу «Юнона и Авось». В моем представлении это и не рок, и не опера, а скорее — прекрасно написанный мюзикл, пьеса со стихами и песнями, которые частично уже публиковались в разных сборниках, частично были совсем новые:
…«Я тебя никогда не забуду,
я тебя никогда не увижу…»
Феерический спектакль с великолепно поставленными танцами, по стилю, правда, сильно напоминавшими постановки Мориса Бежара! Особенно — танец матросов:
..Вместо флейты подымем флягу,
Чтобы смелей жилось,
Под российским Андреевским флагом,
И с девизом «АВОСЬ!»
Нас мало. Нас страшно мало,
И самое главное, что все мы — врозь,
Но из всех притонов, из всех подвалов
Мы возвращаемся на «Авось»…
В середине восьмидесятых это так звучало…
С А. Вознесенским)
Только, пожалуй, в спектакле был явный перебор всяких световых и дымовых эффектов, но мне на это было наплевать. Эта лирическая и местами резко сатирическая музыкальная трагедия осталась для меня генератором хорошего настроения. Несмотря на то, что уж Марк Захаров никак и никогда не казался мне хорошим режиссёром.
28. СТОЙКА и ПЕРЕСТОЙКА. (1984–1989)
Орвелловский (1984) год. Сестра-негритянка. В Доломитах. Рита. «Кофе, кофе!»… Памяти Виктора Некрасова. Бродский. Горбаневская, или «ужимки и прыжки». Неля Воронель или новый жанр: вместо «воспоминаний» — «всё-забывания».
Перед новым 1984 годом «Русская мысль» отвела страницу на пожелания, шутки, рассказики и стихи. Ничто, как мне казалось, не предвещало в те дни скорых перемен в России. Я на этой странице опубликовал эпиграмму.
Всё одна и та же дата называется,
Но история играет вкривь и вкось:
По Амальрику пока что не сбывается,
А по Орвеллу давно уже сбылось!
Имеются в виду книги: первая — «трактат» А.Амальрика «Доживёт ли Советский союз до 1984 года», которую многие и поныне полагают политическим предсказанием, хотя это скорее завуалированный памфлет, и вторая — антиутопия Джорджа Орвелла «1984», которую имел в виду Амальрик, взяв у Орлелла эту дату (смысл даты только в том, что роман написан был в 1948 году, и Орвелл переставил последние цифры).
А мы в 1984 году затеяли зимний курс университета, предназначенный специально для американских военных переводчиков, служащих на территории Германии. Арик снял помещение в Кёнигштайне, где желающие могли в свободное время и на лыжах покататься. Я тоже собирался и веселился заранее, ведь на лыжи я не вставал уже двенадцать лет. Равнинная Европа — слишком теплое место для обычных лыж, а на горных я не умею, да и врождённая боязнь высоты мешает. А в Кёнигштайне — высокое плоскогорье, так что и снега много, и почти ровно.
Но не пришлось. Я попал в больницу с инфарктом. Меня по «скорой» увезли в Бад-Хомбург, километров за пятнадцать от Кёнигштайна. После трех недель в больнице я почувствовал себя достаточно здоровым.
Я читал, писал, гулял по коридору, и всё просился на выписку. Но немецкие врачи были неумолимы.
Как-то я работал ночью, за что получил выговор от красивой, губастой и смешливой сестры-негритянки. Я объяснил ей, что лучше писать, чем в потолок смотреть. Вот, когда она заходит, хорошо: можно хоть на неё смотреть, тем более, что лифчика она, кажется, не носит… А она, смеясь, поставила мне градусник: и сказала, смеясь: Слишком уж большой лифчик надо, в супермаркетах не бывает. А искать лень! Ну ка? Ладно, вот уже пятый день и температура, и давление стабильные» — прошепелявила она, наклонившись ко мне.
Под халатом у неё и верно не было ничего. я уже в прорез халата руку просунул, а она обернулась на лист, прикреплённый к спинке кровати, глянула ещё раз на цифры давления и температуры, и только тогда рывком распустила кушак халата.
Халат распахнула, но не сняла и, приказав мне не шевелиться, — «опасно, однако, сильно двигаться, я всё сама сделаю», — уселась верхом. Весила она немало… Но поголодавши с месяц, я так её крепко ухватил… И очень быстро получилось, как никогда, но у неё, к моему удивлению, за эти семь-восемь минут аж — дважды!