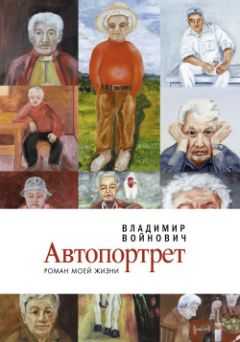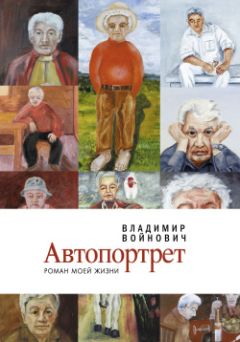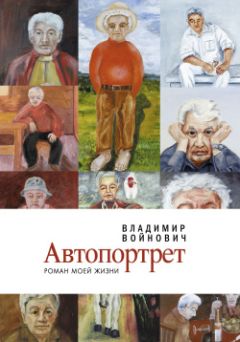Кроме того, я довольно скоро пришел к выводу, что у большинства литераторов, смущающих меня своей образованностью, нет знания того предмета, который называется жизнью. И мои, по определению Горького, университеты тоже чегото стоят.
Главным событием, связанным с ХХ съездом, стало освобождение из лагерей миллионов заключенных. Но были и другие признаки либерализации системы. Колхозникам выдали паспорта, пустые трудодни заменили зарплатой, тоже часто пустой. Я знал пожилую женщину, которая, работая в колхозе от зари до зари, зарабатывала тридцать копеек в день. Но рабочие получили право по своему желанию уволиться с работы, предупредив об этом работодателя за две недели. Я этим правом воспользовался, когда узнал, что власти в Москве вынуждены временно прописывать иногородних. Именно с 56го года Москва стала безудержно расширяться, а кто будет ее строить? Не москвичи же!..
Кадровик сказал, что меня не отпустит и трудовую книжку не отдаст. Я сказал: «А вот же новый закон». Кадровик сказал: «Плевать я на этот закон хотел». На самом деле он употребил более крепкое слово.
Я пошел к начальнику станции. Тому на закон тоже было наплевать в более грубой форме, потому что, если этого не делать, сбегут все. То есть, сказал он, по закону я, конечно, могу через две недели не выйти на работу, но куда я пойду, если он не отдаст мне трудовую книжку? Начальство, сидящее в Рязанской области, скорее поймет его, чем меня. Тогда я стал читать ему свои стихи. К моему удивлению, он выслушал их внимательно и сказал: «Не знаю, получится ли из вас поэт, а из меня начальник не получается». После чего подписал заявление. Я тут же ринулся в Москву, явился в отдел кадров Бауманского ремстройтреста — и был принят на работу плотником пятого разряда. С предоставлением общежития по адресу: Доброслободский переулок, дом 22, комната 8. Общежитие меня интересовало прежде всего. Туда я сразу и побежал. Нашел спрятавшийся во дворе четырехэтажный дом, который был, по выражению Цветаевой, как госпиталь или казарма.
По просторной каменной лестнице я поднялся на второй этаж и нашел искомую комнату. Приоткрыл дверь и отпрянул. Летевшая навстречу бутылка просвистела мимо левого уха, пересекла коридор, врезалась в стену и звонкими брызгами осыпалась на пол.
Я удивился и увидел перед собой смущенное, но не очень, лицо господина лет пятидесяти, в матросской тельняшке и холщовых штанах, одутловатого, лысого, с густыми кустистыми бровями.
— Извините, — сказал господин, — это я не в вас.
— Я так и подумал, — сказал я, уже заметив отскочившего в сторону другого человека, примерно того же возраста, что и первый, но гораздо щуплее и с мелкими чертами лица.
Появление на месте действия нового персонажа повлияло на воюющих благотворно: щуплый беспрепятственно выскользнул в коридор, а лысый ушел в угол и сел на кровать, перед которой на табуретке, аккуратно покрытой газетным листом, стояли початая четвертинка, граненый стакан и лежали нож, хлеб, плавленый сырок и нарезанный ровными пластинками лук.
Я огляделся. Комната мне понравилась. Просторная, тридцать два (так сказал комендант) квадратных метра, два больших окна с широкими белыми подоконниками, восемь новых металлических кроватей с никелированными спинками, с чистыми простынями и новыми одеялами. Между кроватями — новые тумбочки по одной на двоих, посреди комнаты кухонный стол и три табуретки, четвертую лысый в тельняшке использовал вместо стола. Комната своими удобствами заметно превосходила телячий вагон на станции Панки и была лучше всех обжитых мной в прошлом казарм, не считая немецкой в городе Бжег на Одере.
В направлении, выписанном комендантом общежития, была указана кровать вторая слева, как раз рядом с лысым в тельняшке. Я кинул чемодан на кровать, раскрыл его, чтобы самое необходимое спрятать в тумбочку.
Лысый тем временем налил себе немного водки, посмотрел стакан на свет, прищурился, долил еще немного, положил на ломтик хлеба кусочек сыра, на него — пластинку лука, поднес ко рту стакан, подышал в него, как будто хотел согреть содержимое, и сказал:
— Ну, будь здоров, Володька!
Я удивился, что лысый уже меня знает, но сказал:
— Спасибо.
— За что? — Не донеся стакана до рта, сосед смотрел на меня недоуменно.
— Что за меня пьете, — сказал я.
— А я не за вас. Я за себя. — И, подышавши еще в стакан, сказал нервно и торопливо: — Нунуну, поехали!
После чего отмеренную порцию выпил, крякнул, выдохнул воздух и не спеша принялся за свой бутерброд.
Я выложил на одеяло заветную тетрадь, бритвенные принадлежности, зубной порошок, щетку, мыло, запихнул чемодан под кровать и открыл тумбочку, но она оказалась полностью забита. Банки со сгущенным молоком, с бычками в томате, какието кульки и пакеты.
— Это все ваше? — спросил я. — Вы не могли бы мне освободить хотя бы одну полку?
Лысый посмотрел недоуменно.
— Вы разве не видите, что я занят приемом пищи?
Я смутился.
— Я вас не тороплю.
— Если не торопите, тогда другое дело.
Он налил себе еще водки, опять посмотрел на свет, подумал, добавил, поставил стакан на место и посмотрел на меня внимательно.
— Кем вы к нам оформились? — Учтивостью обращения лысый давал понять, что он человек интеллигентный.
Дабы показать и себя шитым не лыком, я ответил, что оформился плотником, но ненадолго, пока не устроюсь более прочно, а вообще в Москву я приехал не для того, чтобы плотничать.
— А для чего же?
— Я пишу стихи.
— Поэт? — спросил сосед, выпыхивая на старинный манер букву «п», словно пар из паровозной трубы.
Меня за время пребывания в Москве уже несколько раз назвали поэтом, и я решил, что имею право обозначать себя этим титулом.
— Да, поэт.
— Нуну. — Сосед поднял стакан и, опять сам себе пожелав здоровья, сказал: — Пей, Володька, пей! У тебя, видишь, теперь какое общество! Ооо! Нунуну, поехали! Уух!
Поухал, подышал, покрякал, спросил:
— Вот эти стихи: «Я ломаю скалистые скалы в час отлива на илистом дне…» Вы не подскажете, откуда они?
Возникла для меня сложная ситуация.
— Чтото знакомое, — сказал я, теряясь и пытаясь выкрутиться, как на экзамене через наводящий вопрос. — Гейне?
— Нет, молодой человек, — сказал печально Володька, — не Гейне. — И, готовя себе новый бутерброд, бормотал: — Нет. Увы. Отнюдь. Не Гейне. Нет. — Посмотрел на новичка с сочувствием. — Это не Гейне, молодой человек, а Александр Александрович Блок, который про нас с вами сказал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами». А вы, молодой человек, еще не поэт, а дилетант.