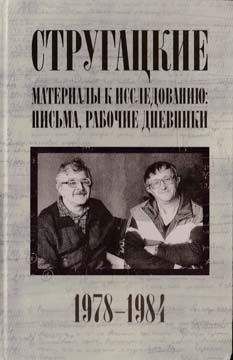Руденко: Самоцензура у вас, конечно же, существует?
А. С.: Конечно. Она нам даже помогает. Заставляет искать более тонкие пути. Заставляет делать более тонкую работу.
Руденко: Интересно, вы садились хоть раз писать книгу, зная заведомо, что она не пойдет?
А. С.: Нет, так нельзя. Конечно, мы всегда можем сказать заранее, пойдет вещь или не пойдет. Но самоцензура проявляется — прорывается — даже не в этом. Совершенно раскованно писать, по-моему, невозможно.
Руденко: А вы пробовали писать реалистические вещи?
А. С.: Нет. А зачем? Нас не интересуют те вещи, ради которых стоит отказаться от фантастики. Товарищи, я вас не призываю поголовно зарываться в проблемы. Существует огромная область фантастики — героическая фантастика, приключенческая фантастика. Вот что мы разучились писать. И очень жалко, что разучились.
Покровский: Время такое…
А. С.: Почему время такое? Создавайте героев, плодите героев…
Геворкян: так ведь не напечатают…
А. С.: Тоже верно… Помните, когда приехал Кастро… прилетел к Никите Сергеевичу Хрущеву… какой-то холуй подскочил к нему: «Товарищ Кастро, скажите, как вы боретесь с абстракционизмом?» — «Я не борюсь с абстракционизмом, я борюсь с империализмом», — ответил Кастро. Словом, пишите «сайенс фикшн», пишите «фэнтези», всё пишите…
Биленкин: Пишете ли вы для театра?
А. С.: Ничего у нас не получается с театром. Представляете пьесу «Трудно быть богом»? Вот безобразие получилось бы…
Бородатый психолог Петухов: Как правило, ваши произведения неоднозначны. Они допускают много толкований, вызывают много мыслей — порой противоречивых. Взять хотя бы «Жука в муравейнике» — пока читаешь, предполагаешь разные варианты концовки, и всё равно то, чем заканчиваете роман вы, обрушивается на читателя совершенно неожиданно. Вы сознательно стремитесь к поливалентности произведений или это получается у вас случайно?
А. С.: Это очень лестно, что вы выдвигаете такое предположение. Дело в том, что мы сами считаем так: чем больше художественное произведение вызывает противоречивых мнений, чем больше допускает толкований, чем больше вызывает столкновение читателя с самим собой, — тем оно лучше. На наш взгляд, абсолютная ценность произведения в этом случае возрастает. Читая произведение, которое можно интерпретировать так, и так, и этак, и так, — человек порой меняет свое мировоззрение. Он начинает понимать, что окончательных ответов в мире не может быть. Вот что самое главное. Сегодня он пришел к такой-то интерпретации, а через год перечитывает вещь, — и у него получается другая интерпретация. Он накапливает опыт. Я не хочу сравнивать, но вот возьмем, например, «Войну и мир» Толстого…
Покровский: Так ведь там всё разжевано…
А. С.: Ничего там не разжевано. Я читаю «Войну и мир» регулярно каждый год, и каждый год я обнаруживаю что-то новое — что-то, что либо не заметил ранее, либо посчитал банальным, а потом оказывается, что это связано с какими-то другими вещами в «Войне и мире» и этой связи я раньше не уловил.
Бородатый психолог Петухов: так ведь чтение любого произведения зависит еще и от психологического состояния, от настроения, даже от физиологии: сытый ты читаешь его или голодный…
А. С.: Что касается «Войны и мира», то этот роман можно читать и в голодном состоянии, и в сытом состоянии, и всё равно: и голодным найдешь что-то новое, и сытым найдешь что-то такое…
Бородатый психолог Петухов: А как вы приходите к выводу, что сказали всё, что хотели сказать, если вещь поливалентна и не допускает однозначности суждений? Может быть, желание закончить произведение приходит бессознательно?
А. С.: Нет, в конце концов это получается сознательно. Сознательно вот в каком смысле. Когда мы упираемся в ситуацию, в которой возможно несколько альтернативных решений, — мы считаем, что на этом можно поставить точку.
Силецкий: Наверное, часто бывает так, что действительность — ежедневная действительность — заставляет вас менять планы? Я это к тому, что ваши произведения всегда очень созвучны времени. То есть я хочу спросить: случается так, что вы планируете одно, а что-то происходит, и вы вдруг переходите совсем к другим решениям?
А. С.: Именно! Ситуации общественного или даже мирового масштаба постоянно наталкивают нас на какие-то идеи, на какие-то догадки. Или на то, что мы считаем догадками. Я говорил здесь уже, что у нас есть сюжетов двадцать — неиспользованных еще сюжетов. Десять из них — если мы вдруг напишем — читать сейчас будет уже неинтересно. «Проехали»…
Силецкий: А бывает так, что вдруг происходит нечто такое, отчего вы немедленно бросаете начатую вещь, перечеркиваете, сжигаете и спешно переходите к новой, следуя только что родившейся идее?
А. С.: Ну, для того, чтобы нас что-то ТАК взбудоражило… Это должно быть начало атомной войны. Обычно это вещи, которые накапливаются исподволь, незаметно, мы к ним привыкаем, и вдруг в каком-то разговоре тема поворачивается каким-то странным образом, и мы говорим: «Ба, а вот оно. Сейчас мы закончим начатую вещь, и хорошо было бы тогда заняться вот каким делом…» Например, я читал «Новые карты ада»[131] — а читал я эту книгу раз пять или шесть — и не обращал внимания на одну очень интересную штуку: помните, там раздражали крысам центр удовольствия? Мне это просто забавным показалось, и — проскочило. А когда я перечитал книжку в пятый или шестой раз — это года два прошло с тех пор, как я читал ее в первый раз, — то вдруг подумал в ужасе: «Господи боже мой! А если с людьми так?..»
Руденко: Когда примерно это было? В каком году?
А. С.: Это было еще до «Хищных вещей века». «Хищные вещи века», кстати, отсюда и возникли.
Бабенко: Интересно, почему вы так не любите пришельцев? то есть, почему — по-вашему — они непременно должны нести какую-то угрозу Земле? Например, Странники в «Жуке в муравейнике»? Почему вы пугаете читателя пришельцами, хотя — по идее — он должен пугаться тем, что происходит у нас на Земле? Ведь самая большая угроза человечеству — сам человек.