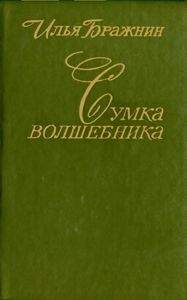Ага. Значит, Сеня Малина всё-таки был, существовал. С этой уверенностью я жил ещё тридцать лет. А в шестьдесят восьмом году в только что вышедшем пятом томе «Краткой литературной энциклопедии», в статье «Писахов», я прочёл: «Сказки Писахова, объединённые в цикл «Северный Мюнхгаузен», ведутся от лица крестьянина-помора Малины, прототипом которого послужил житель деревни Уйма С. М. Кривоногое».
Вот оно как. Выходит, что Сени Малины всё-таки не было. Был Семён Кривоногов, черты которого отлил Писахов в выдуманного им Сеню Малину.
Ну что ж. Можно и так. А всё-таки почему именно так? На это ответил сам Писахов в конце цитированного мной предисловия к первой книге своих сказок: «Чтя память безвестных северных сказителей-фантастов — моих земляков, я свои сказки говорю от имени Малины».
Итак, Малины нет. Но Малина есть. Потому что в. честь его, «чтя память безвестных северных сказителей», сказываются сказки и Писаховым и другими.
И ещё несколько слов о Малине и Писахове. Я думаю, что прототипом С. Малины был не только С. Кривоногов, но и... С. Писахов. Душа Сени Малины жила в самом Степане Писахове, и все придумки Малины — это придумки и Писахова.
Степан Григорьевич писал как-то, что Малина рассказал ему во время их единственного свидания два сказки: «На корабли через Карпаты» и «Розка и волки». Может быть. Но ведь остальные сказки Писахова, сочинённые им самим, как две капли воды похожи на эти две сказки.
Думая об этом, я всё больше утверждался в мысли, что в сказках Степана Писахова столько же Сени Малины, сколько в сказках Сени Малины Степана Писахова. Был ли мальчик, в данном случае не столь уж важно. Гораздо важней то, что был народ-сказитель и был сказитель Степан Писахов, старавшийся следовать его путём.
Тема главы, посвящённой Степану Писахову, — это тема Писахова — Малины. Она как будто исчерпана. Но мне хочется рассказать ещё об одной встрече с Писаховым в... фондах Ленинградского музея Арктики и Антарктики. Случилось это через несколько лет после смерти Степана Григорьевича.
Я спросил хранителя фондов музея Валентину Владимировну Кондратьеву:
— Нет ли у вас в фондах каких-нибудь работ архангельского художника Писахова?
— Кое-что есть, — ответила Валентина Владимировна. — Немного, правда: две картины и несколько листов графики. — И с готовностью добавила: — Сейчас принесу.
Я ждал с нетерпением возвращения Валентины Владимировны и с ещё большим нетерпением следил за тем, как осторожно, неторопливо, бережно хранительница сокровищ вынимает картины из плотных конвертов и высвобождает из архивных пелён. Наконец она даёт мне взглянуть на эти потайно бережённые драгоценности, и первое, что я увидел, взглянув на первое же полотно, был... аэроплан — старый мой знакомец, который я знал по Архангельску...
Надо же было так случиться, что одна из двух картин Писахова, хранившихся в фондах музея, оказалась именно той, которая для моей работы о Писахове в данное время и на данном этапе её была мне всего нужней и всего интересней. Может статься, эта картина и вообще самое интересное из наследия Писахова-живописца.
До той поры я видел эту картину дважды — пятьдесят семь и тридцать семь лет тому назад: на выставке Писахова, если не ошибаюсь, в шестнадцатом году и у него на квартире в Архангельске — в тридцать шестом. И вот теперь она снова передо мной, больше того — мы с ней наедине, и я могу глядеть на неё сколько моей душе угодно: могу разглядеть, наконец, её во всех самомалейших деталях, каждая из которых для меня — находка.
Впрочем, когда картина, высвобожденная из своих хранительных обёрток, предстала передо мной воочию, я ещё не знал — какая это интересная, какая драгоценная находка, как много она для меня открывает, чего я прежде не знал, о чём и не догадывался. Но обо всём этом — в следующей главе.
Придётся на время оставить живопись и литературу, чтобы обратиться к авиации вообще и к северной, арктической авиации в особенности.
Самолёт, изображённый на стоящей передо мной картине, на который я прежде смотрел просто как на самолёт, оказался определённым, действительно существовавшим самолётом, и гораздо больше того — интереснейшей реликвией истории русской и мировой авиации.
Что же это за самолёт? Что за реликвия? Чёткая подпись в правом нижнем углу картины: «Ст. Писахов 1914» — сразу определяла эпоху, к какой относится машина. Это был «Фарман», так сказать, самолёт в пелёнках, свидетель младенческих лет авиации — биплан-этажерка, с густо поставленными между нижней и верхней плоскостями деревянными стойками-распорками и крохотной кабиной-люлькой для пилота, как-то отдельно вставленной в самолёт и окрашенной при том в ярко-красный цвет.
Мне, признаться, невдомёк было поначалу — почему так ярко окрашена кабина, и я решил, что это просто элемент колорита картины, желание художника дать на общем скромно-тускловатом фоне северного пейзажа яркое, привлекающее глаз и живописное пятно.
Но дело обстояло не так. Это была не артистическая прихоть художника, в чём мы убедимся позже, а сейчас займёмся самолётом в целом. Это был гидроплан, стоящий у самого берега на трёх поплавках.
Наклонясь к самой картине, я старался близорукими своими глазами разглядеть детально эти самолётные «ноги», когда Валентина Владимировна будничным голосом сказала:
— Постойте, это же самолёт Нагурского, и у нас есть его фотография.
Она заглянула снова в ведомые ей одной архивные недра и положила передо мной папку, из которой вынула вслед за тем две фотографии.
Я схватился за фотографии. На обеих был изображён уже знакомый мне самолёт, причём на одной — вместе с лётчиком, стоящим возле него на снегу. Лётчик был высок и плечист, одет в плотное демисезонное пальто, на ногах — русские сапоги.
— Прочтите надпись на обороте, — посоветовала Валентина Владимировна.
. Я повернул фотографию оборотной стороной и прочёл карандашную надпись: «Самолёт И. О. Нагурского в Архангельской губе на Новой Земле в 1914 году. Экспедиция на поиски Г. Я. Седова. Фото изготовлено Северным отделением Географического об-ва в гор. Архангельске».
Спустя несколько минут к фотографиям Нагурского Валентина Владимировна прибавила и две его книжки. Книги были присланы из Польши. На одной из них, носящей название «Первый над Арктикой», — дарственная надпись лётчика: «Свершилось предсказанное в 1914 году: единственное средство сообщения в Арктике — самолёт. Арктика перестала быть таинственной. Самолёты лучший способ коммуникационного сообщения. Книжки шлю для музея. Ян Нагурский».