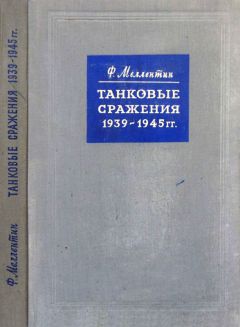1924
Наступило время, когда меня охватил жуткий ужас, яростный страх бессмысленного, так как серые стены проклятого дома натравливали на меня своих привидений, и я слушал ветер, который шумел вокруг зданий. Если я на первом году своего заключения еще чувствовал себя в созвучии с вещами, которые совершались снаружи, и я все еще тайно участвовал в их процессах, я чувствовал себя все еще связанным с происходящим, с волнующим, с настоящим, с единством, со всем тем, что было наполнено более высоким достоинством, то теперь я был совсем один. Я никогда не был настолько один, как в течение тех дней; я был настолько один, что я не выносил того, когда директор с человечным усилием пытался сблизиться со мной, что я не выносил напоминающего участия начальника охраны, смягчающую интонацию редких писем, тайные вопросы товарищей по заключению, и уравновешивающее тепло первых предвесенних дней. Я прятался в камеру, которая была враждебна мне, в которую после отупляющей прогулки я не мог войти, не испытывая безымянного отвращения; я встраивался в четыре стены и ненавидел надзирателя, который открывал дверь, и уборщика, который приносил суп, и собак, которые лаяли под окном. Я пугался радости. Миндальное дерево у входа во двор, которое начинало цвести, которое было покрыто розовыми цветами и наполняло двор неописуемым блеском, было мне так же неприятно, как большой каштан в середине тропинки для прогулки с его пробивающимися почками, и ряд жалких лип, в кроне которых сидели теперь скворцы и зяблики. Ибо каждая радость представлялась мне как подделка, как насмешка над тем, с чем я должен был справляться, и из всех желаний для меня действительным оставалось одно, которое приходило ко мне, если появлялся живой задний план с полными скуки вещами, если через маленький день и маленький порядок, и маленькую борьбу внезапно проламывался закон и предчувствие его более глубокого смысла. Это приходило ко мне, когда я ночью слышал, как в парализующем такте звучат шаги обходящего патруля по коридорам, когда в бледном лунном свете древесина стола начинала угрожающе трещать, хлещущим щелчком прогоняя меня из запутанного сна, когда вырывались крики из камер и до лопанья наполняли трепетный воздух своей дрожью; это резко ударяло в кишки, когда в серой дымке утра резкий звон колокола разбивал ночь, когда уборщики проносились мимо дверей камер и с грохотом открывали засовы, с гремящим буйством в один момент пробуждая дом к его призрачной жизни, когда жизнь этого дома побеждала даже порядок, к которому пытались его принудить, когда бушевал беспорядок в рабочих помещениях, табуретки с треском летели в двери, и кричащие надзиратели пробегали с карабинами и резиновыми шлангами. Тогда я стоял у двери или у окна, встрепенувшись от крайнего напряжения всех мышц, с обнаженными нервами, внимательно слушая, пыхтя, в липком поту, и наслаждался полным содержанием мгновений, которые свидетельствовали о существовании более глубокого и более волнующего слоя, как перестукивание заключенных свидетельствовало о скрытой жизни в камне. Я боялся не хрипящего ужаса, который веял холодом из стен, не неистового крика ночи и видений, которые появлялись из гнетущего одиночества с бледным мерцанием, не безымянного ужаса, который прыгал из лязга ключей, и не испуга, который нападал на безоружное сердце к наполненному ожиданием часу, — то, чего я боялся, было большим обманом, позорной подделкой, к которой порядок дома принуждал мои бодрствующие инстинкты. Я не хотел защиты от себя самого и не хотел никакой защиты от вещей, которые являются настоящими. Я никогда не боялся опьянения, так как оно разрывало ширму, которую обычай и закон натянули вокруг меня против демонов, оно разбивало бастионы, укрепления, в которые я прятался, как и другие; теперь, заключенный в тюрьму и охраняемый, ни на одну минуту не остававшийся без надзора недоброжелательно испытующих глаз, обтянутый запретами, и с бледной дрожью как школьник, в случае поимки, я теперь не искал непосредственно то, что приказывали мне неистовые напряжения моей свободы, теперь я искал себя, всего себя, только себя одного и, все же, знал, что я найду себя в согласии с миром, от которого я видел только бледные тени, и который должен был быть, все же, полным очаровательной действительности, более спелым, чем тот мир, который был разбит во мне после постоянного боя.
Пришло время, когда я думал, что не могу медлить дольше, так как я стремился считать более глубокий смысл случайности моего заключения в явлениях, которые представлялись мне ежедневно.
Со временем у меня были различные случаи, чтобы вступить в более тесную связь также в тюрьме с теми существами этой земли, которые все еще представляют собой лучших медиумов для раскрытия истинно определяющих сил, с людьми.
Господин директор часто прибывал в мою камеру; но это никогда не продолжалось долго, и сжатая беседа развивалась до той точки, которая казалась мне существенной, а господину директору опасной. Тогда у него была отрезвляющая манера коротким рывком надеть свою жесткую шляпу на голову и с полным достоинства прощанием любезно покинуть мое жилище. Было много тюремщиков, которые во время утренней проверки камер останавливались, чтобы обменяться со мной парой слов. Но то, что они говорили, относилось к такому ограниченному, узкому мышлению и переживанию, что я скорее воспринимал их высказывания более подходящими для дома, нежели слова заключенных, и, по сути, был рад, когда мне удавалось избежать унижающей снисходительности их участия, избежать благосклонного напоминания не связываться с преступниками; и, все же, я чувствовал, что они и меня считали преступником, возможно, менее им понятным, но не менее презираемым. Не менее презренным и, наверное, более опасным. Потому что я подлежал двойному контролю, и что бы я ни делал, всегда было предметом длительных обсуждений. Да, я был преступником в их глазах, ни кем иным, и если я сначала защищался, если я полагал, что обязан, подобно им, убежать за защитный вал фарисейства, в том же самом презрении заключенных, одним из которых также я должен был быть, то, все же, я всегда был для них, имеющих право на получение пенсии, достойных уважения, чужаком, как я был чужаком, в принципе, и для заключенных. Я так долго защищался от мысли быть преступником, пока не прочитал высказывание Гёте: «Не бывает преступления, виновником которого я не мог бы представить себя». Я испугался этого предложения, я прочитал его дважды, трижды, я запомнил его, и я подчинил себя самоконтролю, который был болезненным, потому что я не хотел обманывать себя, потому что я при этой воле к внутренней правдивости так пугающе легко должен был подтверждать возможную готовность к любому преступлению у себя. Нет, не было никакого преступления, виновником которого я не мог бы себя представить, и я переносил эту мысль только в убеждении, что она вовсе не могла вырасти из гуманитарного основного настроения, пафос которого должен был бы достигнуть высшей точки в невыносимой констатации, что понять все означает также простить все, а из сильного чутья тотальности всех действующих стихий.