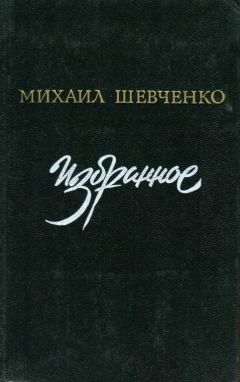— Знаешь, не ожидал. Никак не ожидал… В друзья ведь лез… Дали ему читать моего «Дон Жуана». И что ты думаешь? Он такое нагородил на полях рукописи! Черт-те что!.. И главное — против публикации…
Замолчал.
— Кто это? — спросил я.
Он назвал С. Да, того же С.
Есть у Василия Федоровича «Книга любви». Мне думается, Книгой Любви можно назвать всю его жизнь.
Если спросят, что так мало жил я,
Ты в своем ответе не таи
То, что я страдания чужие
Принимал все время, как свои.
Это сказано не ради красного словца. Я убедился в этом на собственной судьбе.
1985—1986
ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕЧЕР
(о Н. Рыленкове)
Осенью 1963 года в Воронеже проходило выездное заседание секретариата правления Российского союза писателей. Секретариат обсуждал творчество литераторов Центрального Черноземья.
В Воронеж съехалось много писателей. Заседания, доклады, выступления… Это событие вызвало в сравнительно спокойном областном городе суету и шум.
Жили все в гостинице «Россия», красивом современном здании в центре города. Оживленность литературной встречи перенеслась и сюда, дискуссии продолжались в номерах гостиницы.
К концу второго дня участники заседания изрядно приустали, особенно периферийные писатели, не привыкшие к заседательской насыщенности.
Вечером я решил пойти куда-нибудь из гостиницы часа на два-три. Хотелось побродить по городу.
Я вышел из гостиницы и в стороне от подъезда увидел Рыленкова. Николай Иванович стоял один и протирал платком очки.
И совершенно неожиданно для самого себя я подумал: не попросить ли его послушать мои стихи. Но тут же возразил себе. И без меня он наслушался стихов за эти два дня!.. Да, но представится ли еще такая возможность когда-нибудь? Я заволновался. Видимо, сказывались и моя застенчивость, и мой длительный уход из серьезной литературной среды, — уже больше пяти лет после Литинститута работал я в тамбовской областной газете.
И все-таки я превозмог свою нерешительность.
Николай Иванович охотно согласился послушать меня.
— Только давайте уйдем отсюда, а то не дадут, — сказал он. — Перейдем улицу и куда-нибудь неподалеку… Вы знаете Воронеж?
Я понял, что и он устал от заседаний и застолий. Он ведь, несмотря на пришедшую к нему популярность, оставался жить в своем родном Смоленске, городе, который тоже не приобрел еще столичной напряженности и головокружительного темпа жизни.
Пока мы пересекали улицу и выходили к площади перед Драматическим театром, он расспрашивал — кто я, откуда, давно ли пишу. И как будто и вправду что-то открывая для себя, отрывисто бросил:
— Ага, значит, воронежской земли рожак? Что ж, землица щедрая, учились в Литературном? Тоже неплохо.
А сам то и дело останавливался и снова протирал очки и, пробуя, насколько они чисты, поглядывал на меня.
Мы пришли в Кольцовский сквер. Не сговариваясь, очутились на аллее вдоль ограды, где было поменьше гуляющих, и замедлили шаг. И я начал мысленно ругать себя за эту затею. Я перебирал свои стихотворения, и почти все они, даже самые любимые, казались мне плохими, и я медлил с чтением, хотя видел, что Николай Иванович уже ждет его.
И вдруг он как будто почувствовал, что творится в моей душе, и сказал:
— Знаете что? Давайте я вам почитаю!..
Он остановился, остановил меня и положил руку мне на плечо.
— И не свое… Что — свое! Вчера ночь просидел над одной штукой, а сегодня утром пришлось разорвать… Нет! Не свое!.. Я почитаю вам… вечное!.. Не знаю, почему захотелось вам почитать. Но уж коли стихи — так стихи! Мы же, как подчеркивают воронежцы, на земле Кольцова и Никитина. Вот с них и начнем. А?
Расширенные стеклами очков глаза его посмотрели на меня как-то по-крестьянски хитро. И я подумал, что вообще у него удивительно русское, крестьянское лицо. Тут же я уловил в себе обиду, — вишь, не захотел все же послушать меня. Но, думая об этом, вспомнил о его бессонной ночи (а сколько их в жизни поэта!), о разорванном стихотворении и с минуту не слышал Николая Ивановича.
А он уже читал никитинское хрестоматийное:
Душный воздух, дым лучины,
Под ногами сор…
Закоптелые полати,
Черствый хлеб, вода…
— Тысячный раз читаю и удивляюсь. Какая простота! А вот вам еще и сила. Лермонтовская сила.
Чужих страданий жалкий зритель,
Я жизнь растратил без плода,
И вот проснулась совесть-мститель
И жжет лицо огнем стыда.
Чужой бедой я волновался,
От слез чужих я не спал ночь, —
И все молчал, и все боялся
И никому не мог помочь…
Николай Иванович перевел дыхание.
— Это совестливый поэт! И этому надо учиться у него.
Людскую скорбь, вопросы века —
Я знаю все… Как друг и брат,
На скорбный голос человека
Всегда откликнуться я рад.
И только. Многое я вижу,
Но воля у меня слаба,
И всей душой я ненавижу
Себя, как подлого раба.
— Да, да. Очень совестливая поэзия…
Бронзовый Никитин, ссутулившись посреди сквера, слушал свои стихи и, казалось, вновь переживал их, и они новой тяжестью ложились на его плечи. К тяжести его строк прибавлялась грусть кольцовских…
Что, дремучий лес,
Призадумался,
Грустью темною
Затуманился?..
Одичал, замолк…
Только в непогодь
Воешь жалобу
На безвременье…
Где-то в глубине души мелькнуло: а слышит ли Кольцов свои стихи, ведь он там, в самом конце сквера…
А Николай Иванович уже повел меня к Пушкину, Некрасову, Блоку, Есенину, Мандельштаму.
— А вот вам еще!
Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, —
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!
— Вы знаете эти гениальные стихи? Как она могла написать их? Вы знаете, чьи это стихи?
Он секунду помолчал. Не дождавшись ответа, приостановился, поднял свою крупную руку, раскрыл ладонь, будто передавая что-то, и с каким-то благоговением, притихшим голосом сказал: