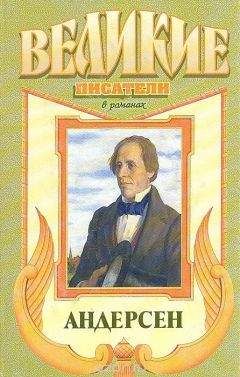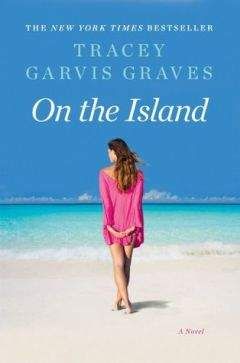Он всегда с грустью уходил от воды, точно это была его родина. Видно, река Оденсе всё ещё текла в его душе, видно, всё ещё работала старая мельница, приютившая множество сказок...
Андерсен посмотрел на небо: где-то рядом, он чувствовал, ангел-хранитель. Он не оставит его.
И гимназист вернулся в школу, где его встретил уставший от новых административных забот Мейслинг. Энтузиазм нового места уже исчезал в нём, а выполнять многочисленные и хлопотные обязанности директора большой гимназии у него не было никакой охоты. Он тяжело вздыхал, пил ром и смотрел вокруг глазами ромовой бутылки: жизнь при этом становилась более весёлой и терпимой. Что ж, он сделает ещё несколько глотков, он много трудится и может позволить себе эту маленькую слабость. А вот зачем пьёт его жена, он совсем не понимал: могла бы экономить хотя бы на роме. Ведь долги быстро увеличивались, а зарплата директора латинской школы в Хельсингёре не в состоянии выдержать расходы, которые делает фру Мейслинг. Денег не хватает даже на жалованье служанки, хорошо ещё, хоть этот гимназистишка Андерсен живёт в доме, на нём можно экономить, даже если и поймёт, то промолчит, ведь Мейслинг ему как Бог. Андерсен и Иене так много едят, что никакой король не сможет прокормить их. Нет, пусть мальчики будут худощавы, это неприлично, в конце концов, толстеть на Мейслинговых харчах. Проклятая школа! Кто здесь оценит его, Мейслинга? Нет, неверна поговорка, что лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Быть, скажем, вторым поэтом в Копенгагене его вполне бы устроило. И вдруг он рассмеялся — он задал себе вопрос: а кто же первый? И сам ответил: конечно, Андерсен. Его ромовый смех был таким весёлым, что ещё немного — засмеялись бы и стены и дом обрушился бы.
Раскат мейслинговского смеха достиг ушей Андерсена, и он улыбнулся: значит, директор в прекрасном расположении духа и сегодня можно будет избежать придирок и издевательств. Но всё равно он виновато обернулся на дверь: не войдёт ли фру Мейслинг, которая зачастила к нему непонятно зачем, — и спрятал лист с начатым стихотворением. Потому что был уверен: даже проникший в его комнату смех директора мог увидеть его за написанием нового стихотворения и доложить об этом владельцу. Андерсен порвал листок с начатым стихотворением и освобождённо вздохнул: ну нет, никто его больше не поймает за написанием стихов.
А на странице жили паруса, смеялись цветы, вязали свои мысли пауки, прыгали кузнечики, отправившиеся в гости к таким же зелёным лягушкам, а чуткая роза думала о мире и людях и хотела рассказать обо всём, но смех Мейслинга прервал её на самой главной мысли.
«Куда деваются ненаписанные стихи? — думал Андерсен. — Уходят к другим поэтам? Но если так, то к кому? А может, они отправляются на луну и там калеками доживают свой короткий век? Ну, в самом деле, куда? Куда? Куда?»
АХ, ЭТОТ КАНИКУЛЯРНЫЙ КОПЕНГАГЕН!
Каникулы в Копенгагене всегда заставляли вспомнить о розе. Она может расцвести только в подобающем климате, как и душа будущего сказочника.
Улыбка вдруг появилась на его лице, рассеивались первые морщинки, куда-то улетала тяжёлая память о матери, об Оденсе, в сердце всходила радуга.
Что за чудо был дом адмирала Вульфа! Андерсен словно переселялся на другую планету, Вульф был начальником Морского корпуса, который помещался в одном из Амалиенборгских дворцов. Странному гимназисту предоставили светлую комнату. Он жил в богатом дворце! С ним разговаривали прекрасные люди! Он не натыкался на острия мейслинговских улыбок.
— Господи! Спасибо Тебе! — шептал он, глядя на площадь перед окном своей комнаты, восторгаясь своим положением, в полной уверенности, что всё это — ему по праву. Вот бы увидели мать с отцом его комнату, уж порадовались бы вместе с ним.
Андерсен был умилен, восторжен. Было у него чувство, что попал в рай. Он вспоминал своих бесконечно бедных родителей, потерявших всякую способность вырваться из пут нищеты.
Лица сверстников не вспоминались ему: он не любил игр, его друзьями были старые комедии, которые он читал так часто, что и посреди ночи мог вспомнить любую реплику. Он ещё не понял одиночества, но привык к нему, если ты читаешь, то одиночества нет, если ты думаешь, то одиночества нет, если тебе хорошо наедине с самим собой, то какое одиночество может быть? Это одиночество позволило ему робко постучаться в тонкие двери фантазии. Самые крепкие двери в мире сами открылись навстречу.
Его принимали семейства Оденсе, где уважали образование, и Андерсен страстно читал отрывки из пьес, из своих наивных фантазий. Он бродил по пьесам Шекспира, как по своим собственным. Ну, как тут не попробовать пойти вслед за братом по духу Вильямом Шекспиром? И он побрёл, не замечая камней, коловших босые ноги, побрёл, радуясь лепесткам роз и не замечая их шипов. Смерть отца заставила его в одиннадцать лет взглянуть на мир глазами смерти, и он ужаснулся. «Что было бы со мной, если бы после конфирмации я не уговорил мать отпустить меня в Копенгаген? Я сошёл бы с ума», — сам отвечал он — и был совершенно прав. Он не стал артистом, но Бог заметил его и помог людям добра выхлопотать ему стипендию короля. Он полюбил число тринадцать, ведь с тринадцатью риксдалерами в кармане он отправился из Оденсе — а в сущности, навсегда ушёл в странствие по миру, и скучный Копенгаген заметил его и не обходил своим вниманием, рассеивая свою добропорядочную скуку. Ах, театральная школа: бесплатный приют для бедняков, возомнивших себя талантами. А сколько раз терпение покидало его, вплоть до желания покончить с собой. Если бы не молитвы, не Божье благоволение, он бы давно умер, и Копенгаген даже никогда и не вспомнил о нём. А сейчас он стоит у окна в доме адмирала Вульфа, и ему кажется, что всё происходящее с ним уже было в каких-то прошлых жизнях, когда-то давно, или снилось во сне и теперь протягивает тонкую прозрачную ладонь, чтобы пожать его руку, и он видит длань будущего и протягивает свои пальцы, но чудная рука исчезает. Возникло лицо Гульдберга, помогавшего овладеть грамотой, ведь школа для бедных в Оденсе отнюдь не была приютом знания. Это были крошки грамотности, не позволявшие овладевавшему ими назваться грамотным человеком.
Восторженность перед призраком славы заставляла писать драму за драмой, комедию за комедией, и рука привыкала к перу, как ребёнок привыкает к теплу матери. Можно сказать, что перо усыновило этого долговязого, некрасивого, по-своему обаятельного в силу искренности нищего парня. Гульдберг заставлял его писать, правил ошибки, которых было так много, что если начать разбирать их сейчас, то гимназист Андерсен покраснеет.