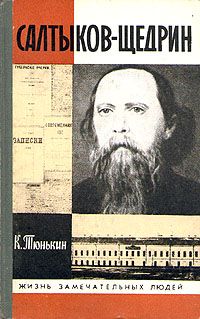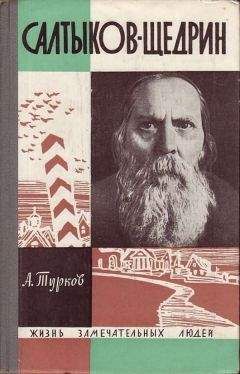Самочувствие Салтыкова было отвратительным. Он глубоко страдал от своего бессилия изменить «полицейский» характер действий Губернского присутствия. Он рассорился со многими его членами, в особенности с «вождем» крепостнического большинства — управляющим палатой государственных имуществ В. Г. Коробьиным. Он приложил всю свою энергию и волю, но в этом сложном случае не смог использовать своего влияния на губернатора Баранова. «В настоящую минуту, — жаловался он 16 мая в письме П. В. Анненкову, — так гадко жить, как вы не можете себе представить. Тупоумие здешних властей по крестьянскому делу столь изумительно, что нельзя быть без отвращения свидетелем того, что делается».
«Крестьянское дело идет в Тверской губернии столь же плохо, как и в Ярославской, — вновь пишет Салтыков Е. И. Якушкину. — В течение мая месяца было шесть экзекуций; в одной выпороли 17 человек, в другой троих, в третьей двоих; в трех случаях солдатики постояли-постояли и ушли.... Гр. Баранов, очевидно, действует таким образом по слабости рассудка, им совершенно овладел Коробьин, который рассвирепел ужасно и с которым, вследствие сего, я перестал кланяться. Вам, быть может, покажется ребячеством с моей стороны подобная штука, но увы! Я и до сих пор не всегда умею скрывать свои чувства, особенно если это чувства омерзения. Свирепость Коробьина произошла оттого, что он получил известие, что в Михайловском уезде (Рязанской губ.), где у него находится имение, крестьяне ворвались в земский суд и стоптали исправника. Отсюда ярость, отсюда приурочение личной боязни к принципу общему. «Это они пробуют свои силы!» — вопиет Коробьин. — «Свои силы», бессознательно повторяет Баранов и вслед за этим краснеет. И, несмотря на свою стыдливость, посылает команды. Я пытался усовещивать его, подал даже формальную бумагу с доказательствами нелепости его действий; но и тут Коробьин подпакостил: «Пускай, говорит, волнуется, а вы идите себе своей дорогой; вас, говорит, за бездействие власти под суд отдадут». С тех пор Баранов встречается со мною и краснеет; краснеет и посылает команды».
Дальше в этом же письме Салтыков с возмущением рассказывает о подробностях «Арнаутовского погрома», то есть экзекуции в имении угличского уездного предводителя Арнаутова, где «после объявления воли» крестьяне отказались исправлять барщину и платить оброки. Имение Арнаутова соседствовало с ярославским имением Салтыковых Заозерьем. «Командир полка, бывшего на экзекуции, доносил начальнику дивизии (полк квартирует в Кашине), что один эскадрон еще оставлен в имении, с таким распоряжением: выводить людей каждый день на барщину и каждый же день резать по крестьянской корове на мясные порции. Дуббельт <флигель-адъютант, генерал-майор, присланный для подавления крестьянского бунта> перед отправлением в экспедицию был в Твери и говорил другу своему Баранову: «Я стрелять не стану, а только всех их кур и коров передушу». И Баранов ничего, даже не замахнулся на своего друга, даже не назвал его сукиным сыном». Михаил Евграфович Салтыков, конечно, сделал бы и то и другое: и замахнулся бы и сукиным сыном назвал!
Именно в эти тяжелые дни мая — июня 1861 года Салтыков принимает твердое решение «рассчитаться со службой», чтобы приобрести небольшое имение, где можно было бы заняться сельским хозяйством на новых основаниях «свободного труда», и, главное, чтобы писать и писать.
В газетных и журнальных статьях, написанных с апреля по октябрь 1861 года, под впечатлением всего увиденного и пережитого, он обобщает свои соображения о ходе «крестьянского дела» в продолжение первых послереформенных месяцев, о роли и месте в этом деле государства, дворянства и крестьянства.
В статье, написанной одновременно со вторым письмом к Якушкину, Салтыков вновь обращается к тому, что он называет «недоразумениями по крестьянскому делу» («Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу»). Представьте себе забитого и загнанного мелкого чиновника, какого-нибудь писца из Галерной гавани Петербурга, который вдруг получает известие о нежданно-негаданно свалившемся на него наследстве в миллион рублей. Вы, благоразумные люди, думаете, что ему следовало бы, так сказать, «тихо и добропорядочно совлечь с себя ветхого человека и кротко и не брыкаясь прокрасться в новую жизнь». Ан нет. Он первым делом нагрубит начальству и устроит дебош, что в его положении весьма естественно.
Не находятся ли в подобном положении наши крестьяне?
Конечно, многим хотелось бы, чтобы крестьяне при вести об освобождении, надевши синие кафтаны и праздничные сарафаны, стали бы водить хороводы, а на другой день благонравно принялись бы за исполнение испокон веку привычных обязанностей. «Этим господам хотелось бы подменить человеческую природу и сделать из нее, хоть на время, хоть на два годочка, исключительное хранилище чувств благонравия и благодарности». Но ведь крестьяне, теперь уже свободные, не могут оставаться при выработанном веками бессловесном благонравии и не выражать недовольства необходимостью по-старому нести все те же повинности опостылевшему барину. Желание же «некоторых личностей» «остаться хоть на время на прежней крепостной почве» и порождает те «недоразумения», которые, по вине все тех же «личностей», принимают нередко форму «бунта». Салтыков остро и болезненно воспринимал злонамеренные обвинения мужика в «неблагодарности» и бунтовщических наклонностях (вспоминались слова Коробьина: «Это они пробуют силы»).
Руководствуясь тем своим пониманием реформы, ее значения для русского крестьянина и русского общества, которое постоянно двигало им во всем его поведении этого знаменательного года, Салтыков формулирует целую, по содержанию своему — идеальную (он, реальный политик, это несомненно понимает), но все же, как ему тогда представлялось, возможную, программу действий для мировых посредников и Губернских присутствий. Вероятно, эта программа находила выражение и в подаваемых Салтыковым формальных письменных и устных протестах губернатору и в тверском Губернском присутствии, «Чтоб действовать с успехом, для них <то есть мировых посредников и Губернских присутствий> необходимо с первого же раза приобрести свободное доверие крестьян, а им указывают на угрозу, на страх наказания, забывая при этом, что окончательная и истинно разумная цель преобразования быта сельских сословий заключается не только в улучшении материальных условий этого быта, но преимущественно в нравственном перевоспитании народа», то есть в освобождении его от рабской морали, в воспитании в бывшем «холопе» и «хаме» свободной личности, сознающей свое человеческое достоинство. И именно поэтому «в настоящее время все усилия должны быть направлены к тому, чтобы предпринятая правительством реформа прошла спокойно, без потрясений, и чтобы плодом ее было сближение двух заинтересованных в деле сословий, а не разъединение их».