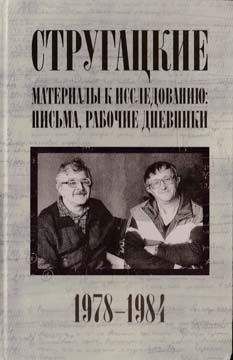— Ты превратишь, — сказал Тузик. — Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности».
Сейчас, в конце восьмидесятых годов, этот диалог кажется достаточно заурядным: очередная разработка экологической темы… Хочу, однако, напомнить, что в начале шестидесятых эта тема в нашей литературе не существовала, что едва-едва проходили первые научные публикации. Стругацкие же, изобразив биологическую цивилизацию, сделав своих «аборигенов» полностью зависимыми от живой природы — и столкнув ее с домарощинерами, — сразу, выпукло и отчетливо, раскрыли суть понятия экологической катастрофы: вместе с природой под «кое-чем настоящим» погибнут люди, спасения не будет… если самим себе «по морде вовремя не дать»…
Итак, в первых двух главах «Улитки» читатель знакомится с главными героями и как будто начинает понимать суть происходящего. Но шагом дальше, уже в третьей главе, появляется ощущение, что понять пока не удалось ничего, что суть много страшнее, чем мы заподозрили вначале. Так будет до конца книги, ибо и Перец, и Кандид до самых последних страниц будут рваться к истине, к пониманию — падая, поднимаясь, расшибаясь в кровь… Оба они «больны тоской по пониманию» — вот что делает их столь необычными для фантастико-приключенческой литературы. Они не любят и не хотят атаковать, преследовать, убегать, они ученые, то есть люди мысли, внутреннего действия. Они очень разные — Перец — гуманитарий, мягкий, созерцательный характер; Кандид — полевой биолог, активный исследователь; Перец несколько напоминает заглавного героя «Идиота» Достоевского, Кандид — умных и человеколюбивых героев Фолкнера.
И в финале романа оба они получают возможность влиять на ту часть мира, в которой они живут. Это очень важно и символично: не мускулы супермена, не козни интригана, не воля властителя, а мысль, понимание приводят к успеху, весьма и весьма относительному, правда… Филолог Перец получает право издавать директивы, пользоваться словом; биологу Кандиду попадает в руки предмет, в лесу неведомый: скальпель, хирургический нож. Двойной символ; знаки слова и ножа не просто отвечают профессиям героев, они давно вошли в русскую классику; например, в «Идиоте» оба символа пронизывают все действие. Великолепный пример истинной литературной преемственности и — живой и подвижной! Если у Пушкина и Достоевского слово было символом горнего пророчества, то здесь оно — символ устроения жизни людей. А нож, этот, по Достоевскому и Булгакову, знак черных, разрушительных сил, обернулся спасительным орудием хирурга. Ему возвращен первоначальный, пушкинский смысл: скальпель в руках Кандида — благородный кинжал, орудие рыцаря без страха и упрека.
Итак, два героя продвигаются по роману, глава за главой; снова и снова Управление сменяется Лесом. И мы видим парадоксальную картину. Управление, которое поначалу выглядело организованной системой — пусть устроенной дурно и нелепо, — оказывается хаосом, машиной, которая сама по себе неуправляема. И напротив, сквозь рисунок Леса — хаотический и бессмысленный — постепенно проступают контуры диктатуры, твердо знающей свою жестокую цель.
Лес, воплощение идеи свободного развития, и Управление, раз и навсегда устроенная организация, поменялись местами. Противоположности более чем сошлись; это — знак равных возможностей. То, что происходит в Лесу, могло случиться в Управлении; хаос Управления с легкостью мог завладеть Лесом. Нам как будто демонстрируют два вида ловушек, подстерегающих весь спектр людских организаций и обществ. <…>
Если окинуть книгу взглядом — так сказать, отодвинуть ее на нужную дистанцию, — то окажется, что все подчинено единой цели — возбудить познавательный интерес, заставить нас непрерывно ориентироваться — настороженно оглядываться, выбирать, куда поставить ногу, — воистину, как в тропическом лесу. И читатель, который поддается этому литературному колдовству, пытается — более или менее безнадежно, а потому нескончаемо — разобраться в делах загадочного Управления и таинственного Леса. Это в высшей степени увлекательно, но с какого-то момента читатель незаметно для себя перестает доискиваться, кто такие, скажем, «гиппоцеты» или «рукоеды», почему завгаражом называется менеджером, а сотрудники «инженерной охраны» носят картонные маски, на которых карандашом нацарапаны имена… Мы обживаемся в странном мире «Улитки» и тогда задаем книге и себе главный вопрос — о людях. Почему такие реальные, узнаваемые и в большинстве хорошие люди покорно принимают заданные им правила дурной игры? И в Управлении, и в Лесу? Как эти правила забрали такую силу? Тогда, сменив направление ориентировки, мы и начинаем понимать, что книга рассказывает не о дурных системах управления, а о людях, которые эти системы создали и удерживают их у власти.
<…>
Методично, глава за главой, без нажима нам показывают, что люди везде одинаковы, да так и говорит Алевтина. Все они заслуживают сочувствия — еще одна традиционная идея русской литературы.
Утверждая глобальное единство человечества, Стругацкие как бы ставят этнографический эксперимент: Кандид, подобно Миклухо-Маклаю, помещен в абсолютно чуждую европейцу среду. Такая едва заметная черточка: «аборигены» даже не черные и не желтые, а пятнистые. Но отличает их от типичных европейцев Управления всего лишь более высокая степень гражданской пассивности. Кандид колотится об эту пассивность, как муха о стекло.
«Аборигены» отлично знают дела своей деревни и знакомы с ее ближайшими окрестностями, но дальше ни шагу: остальной мир представляется им ирреальным. Писатели как будто объясняют такую пассивность, задав им райские условия жизни. В самом деле, о чем беспокоиться, если еда и одежда растут под ногами?
Но в Управлении-то ничего подобного нет, а его служащие во многом подобны лесовикам. Они толкуют о «спецобработке» с такою же тупой покорностью, как те о «дрессировке»… <…>
Но картина на деле шире. Рядом с Лесом идет Управление, жесткая структура, казалось бы, не восприимчивая ни к каким новым веяниям; не тирания, а бюрократия. Вспомним, однако, что люди там также заражены пассивностью, что блокнотики Домарощинера уже ведутся — почва для тирании готова… Человеческое сообщество, не устремленное к доброй цели, лишается нравственного иммунитета и может поддаться любой инфекции.
Мир «Улитки на склоне» сущностно диалектичен. Противоположности сливаются в единство; глубинное содержание вступает в диалог с сюжетной поверхностью. Ведь на поверхности мы видим Переца и Кандида, личности, противоборствующие общественному устройству. Но их борьба — во благо, их личности прямо противоположны личностям тиранов, их добрый коллективизм противопоставлен дурному коллективизму «подруг».