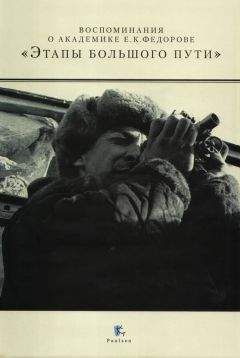Всё же лето с его теплом, солнышком, открытыми дверьми в барак, с ночёвками на свежем воздухе на дворе возле барака — было благословенным временем.
К тому же, понемногу начали налаживаться и связи с родными. Я получила письмо от мамы, эвакуированной с детьми в деревню под Бузулуком.
Я узнала, что все мои живы — пока живы. Муж был на фронте в сапёрных войсках, очевидно потому, что был архитектором…
Мой двоюродный брат, «не донёсший на меня», и к войне давно уже кончивший свой трёхлетний срок за это, в армию взят не был, а попал в какую-то «трудармию» — и это кончилось для него не менее трагично, чем мог бы кончиться фронт.
Вышло всё это совершенно случайно — вот и не верь в судьбу! Охраняя какой-то лес, он жил в сторожке вдвоём с одним стариком. Дед был славный, рад был товарищу, и заботился о Юрке, как о сыне. Беда была в том, что дед болел туберкулёзом. Юра заразился, и промучившись несколько лет, умер, не дожив до сорока лет и до реабилитации, не услыхав, как маленькая, обожаемая им дочурка впервые скажет «папа»…
Но всё это было позже, а пока и он был жив…
Самым горьким было маленькое письмецо-треугольничек от Фёдора Васильевича, пересланное мне моей мамой. Оно было скорбной, безнадёжной и последней искрой пропащей, неизвестно зачем загубленной, человеческой жизни…
…И снова пришла зима, и когда в лагере на «подсобных» работах делать стало нечего, меня сунули в какую-то лесоповальную бригаду.
Женские лесоповальные бригады, не в пример мужским, почти всегда вырабатывали норму. И ни одна из бригад не хотела брать «интеллигенцию» — её навязывали силой нарядчики, если некуда было девать людей. Так было и со мной. Меня нехотя взяли в бригаду…
…Это был мой первый и последний «взлёт» на общих работах, когда я достигла невиданных «вершин» производительности и заработка в 800 граммов чудесного, сытного ржаного хлеба! Конечно, не сразу… В лесоповальную бригаду входило шесть «основных» человек и два «подсобника». Основные — это лесоповалыцики, обрубщики ветвей и раскряжёвщики — раздельщики древесины — тоже каждых по двое.
В обязанности подсобников входило собрать обрубленные ветви и сучья и сжечь их. Эта работа считалась «лёгкой», и на неё посылали людей с 3-ей категорией трудоспособности. «Основные» официально должны были иметь 2-ю категорию — лесоповал считался работой тяжёлой. Не знаю, кто получал 1-ю категорию — давалась ли она по физическому состоянию, или по каким-то другим признакам — не знаю, но мне не довелось встретить в лагерях человека с 1-й категорией…
Стопроцентная выработка оплачивалась шестьюстами граммами хлеба — для этого бригада должна была выработать 30 кубометров древесины — по 5 кубометров на человека. Подсобники не учитывались. Чтобы получить 800 граммов — норму надо было перекрыть на 20 %.
Итак, я попала на «лёгкую» подсобную работу — сбор обрубленных ветвей. И ещё их нужно было сжечь.
У нас на лагпункте давно не водилось спичек. «Неугасимый огонь» поддерживался в кухне, бане, прачечной. В крайнем случае можно было попросить у стрелков, или зажечь от сторожевой плошки. Но это всё в Зоне. На лесоповальную делянку надо было нести с собой угольки в чугунке, чтобы из них раздуть костёр. А ведь делянки были за 5, за 8 и даже больше километров от зоны!
Увы! — сколько раз мне не удавалось спасти тлеющую искорку, сколько раз в котелке оказывались затухшие холодные угли!..
…Вот и отправляйся за новыми углями — бреди по протоптанной в тайге тропе, по бокам которой снег чуть не по плечи тебе… Но это всё ничего, эти хождения по таёжным тропам, особенно утром, пока ещё есть силы в ногах, и если погода тихая.
…На всю жизнь запомнились мне прекрасные картины со спящими под снегом великанами — соснами, со звёздами в начинающем светлеть небе, с первыми нежно-розовыми облачками, которые чуть тронуло восходящее солнце, с ручьями, пробивающимися из под снега и снова исчезающими в сугробах… и вокруг великолепная тишина, разве только дятел раскатит свою трель…
Но ведь лесоповальщики не ждут — им надо сделать свою норму. Пока ты ходишь за огнем, уже повалено несколько огромных корабельных сосен. Очищено от ветвей, раскряжёвано. Падая, сосны пышными своими кронами зарылись глубоко в метровый снег. Искусно обрубленные снизу из-под стволов, ветви теперь едва торчат на месте «побоища». Раскряжёванные стволы откачены в сторону. Попробуй, вытащи такую «веточку», в три твоих руки толщиной, вмятую в глубокий снег, да ещё притоптанный валенками работяг. Но надо вытащить, надо приволочь к костру, надо, чтобы они ещё горели — эти громадные сырые разлапистые ветви.
Если делянка не убрана, десятник не примет древесины. Обливаясь потом, а то и слезами, мы с моей напарницей таскаем неимоверно тяжёлые ветви, проваливаясь по пояс в снег, а затем, стоя на коленях, дуем до одурения в чадящий, дымящий, но никак не желающий гореть костёр…
А бригадир покрикивает, торопит — скоро начнёт темнеть; короток зимний день в прикамской тайге, никому неохота сидеть на штрафном пайке.
Кончается тем, что вся бригада, чертыхаясь и обкладывая нас трёхэтажным матом, начинает помогать нам — все таскают ветви, и кострам, наконец, надоедает дымить, и дымовую завесу прорезает яркое лезвие огня. Костёр весело трещит, рассыпая фонтаны искр, ветви корёжатся и шипят — но теперь уже напрасно — огонь победил!..
Приходит десятник, отшлепывает своим молотком клеймо на срезе бревна, измеряет, записывает в свою книжечку.
Не обходится и без мелкой туфты. Слишком соблазнительно, если вчерашний лес лежит неподалеку, не воспользоваться случаем — отпилить тончайший кругляшок с клеймом, в каждой бригаде есть такие «спецы», и сдать брёвна ещё разок… Да и не грешно, право. За свои 800 граммов бригада довольно пролила пота. Государство и так не в убытке — ведь работаем только за паёк, а так — нам лишние 200 грамм!
Последняя работа — умело закопать костёр. Так закопать, чтобы завтра, если отправят на эту же делянку, можно было раскопав его, под снегом найти ещё тлеющие угольки, сохранившие жизнь до нового утра… Неопытный человек вряд ли сумеет так закопать, но опытные лесоповальщики могут…
Домой отправляемся в сумерки, вереницей друг за другом по тропам, которые похожи на траншеи. Но тут я чувствую, как ноги наливаются свинцом, спину между лопаток отчаянно ломит, и я пропускаю, свернув в снег, одного путника за другим, пока не остаюсь совсем последней, и едва волоча ноги, тащусь вслед за всеми.
Так долог, так бесконечно долог этот обратный путь, и какое счастье разглядеть среди тёмных силуэтов деревьев мигающий огонёк сторожевой плошки! Перед воротами лагеря постепенно собирается толпа, люди начинают мёрзнуть, прыгать с ноги на ногу, сырые бушлаты застывают колом. Но пускают в зону только тогда, когда всех пересчитают, и всё сойдётся…