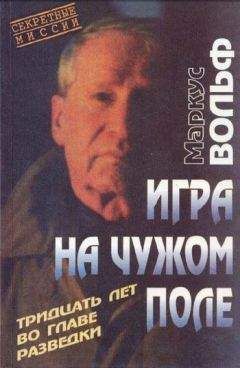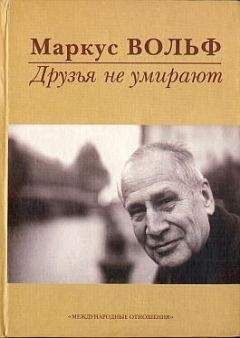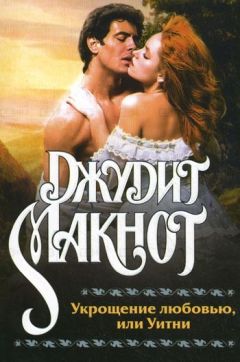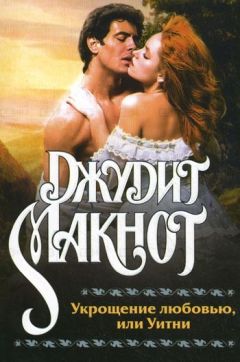Поведение контрразведки ЦРУ, а также мой личный опыт, о котором я упоминал в начале этой книги, убеждают меня в том, что оно больше было заинтересовано замять все разговоры о засевшем в ЦРУ “кроте”, чем на самом деле искать его. Гэс Хэтэуей докладывал комитету сената по разведке в 1985 году: “В центре ЦРУ никогда не было агента Москвы. Возможно, что нам не удалось его обнаружить, но я сильно сомневаюсь в этом”. И это несмотря на то, что перебежчик Эдвард Ли Ховард, уволенный из рядов ЦРУ двумя годами раньше, в течение ряда лет передавал Москве секретную информацию о намечавшихся ЦРУ операциях против нее; его предательство так и не было бы раскрыто, если бы его не выдал перебежчик, офицер ГКБ Виталий Юрченко. Познакомившись с Хэтэуэйем, я убедился, что это был серьезный и добросовестный разведчик. Я задавал себе вопрос, почему он затушевывал недостатки Управления таким образом? И понял, что он боялся критики ЦРУ со стороны общественности, особенно в тот момент, когда его положение пошатнулось. Оценки, сделанные нашими офицерами в Вашингтоне и Нью-Йорке, говорили о том, что в 70 — 80-е годы ЦРУ стало гораздо менее уважаемой организацией — не только секретной и неподотчетной, что было бы совершенно нормально для мощной разведывательной службы, но и “больной” организацией, а такую репутацию ни одна разведка не может себе позволить.
Одной из слабых сторон американской разведки, которая должна была бы стать очевидной при анализе провала Эймса, была склонность к политическим жестам. В последние годы пост руководителя ЦРУ стал сродни должности футбольного тренера, которого вышвыривают после неудачного для команды сезона. Преимущество такой политики сугубо косметическое: пусть общественность думает, что пришла “новая метла, которая чисто метет”, а через несколько лет его также легко “выкинут пинком под зад” за некомпетентность. Этот способ никак не повышает эффективность работы разведывательной службы. Совсем наоборот, период после разоблачения и ареста агента — это как раз время, требующее стабильности высшего руководства и преемственности в работе. Я всегда считал, что массовые увольнения никогда не были адекватными мерами.
Когда исчез Вернер Штиллер, я рекомендовал заменить только его непосредственного руководителя. Ни на меня, ни на моих сотрудников не было оказано никакого давления, никто не требовал нашей отставки. И верно, целесообразнее было всем нам остаться на своих местах и сделать выводы, чтобы это не повторилось снова. Между прочим, у меня нет никакой уверенности в том, что ЦРУ когда-нибудь задумывалось над тем, почему случился провал и как сделать так, чтобы он не повторился. Некоторые отделы разведки, особенно советский отдел, как я вспоминаю, казалось, действовали наобум. Если бы они провели тщательное расследование причин провала после предательства Ховарда, они быстрее сумели бы разоблачить Эймса.
Разведывательная служба оказывает себе медвежью услугу, поддаваясь на некомпетентные призывы политиков снести головы виновным, как только сообщения о неудачах просачиваются в прессу и становятся достоянием общественности. Я всегда испытывал скрытую симпатию к Хериберту Хеленбройху, чья карьера главы иностранной разведки Западной Германии была сломлена предательством Тидге. Хеленбройх, который до этого возглавлял Ведомство по охране конституции, был новичком в разведке; у него были некоторые разногласия с новыми помощниками канцлера (особенно с Клаусом Кинкелем), и поэтому его сделали “козлом отпущения” за ошибки, которые допустили его предшественники, а также из-за отсутствия общего контроля, свойственного секретной службе.
Я не могу закончить эту главу, не упомянув одного человека, которым я всегда восхищался и которому, как Малеру и Кливию, многим обязан в моих знаниях о Соединенных Штатах. Речь идет о Клаусе Фуксе, знаменитом физике, о котором часто говорят как о крупнейшем атомном шпионе, участвовавшем в создании атомной бомбы в Лос-Аламосе и на всех его этапах информировавшем Советский Союз о принимаемых при этом решениях. Он был свидетелем гигантского взрыва 16 июля 1945 г., когда атомный гриб как знак грозящего уничтожения поднялся над пустыней Аризоны. О предстоящем взрыве бомбы Фукс так своевременно сигнализировал в Москву, что Сталин не выразил никакого удивления, когда президент Трумэн после получения телеграммы о “рождении бэби” сообщил об этом за столом переговоров держав-победительниц в Потсдаме.
Меня уже давно интересовало, почему Фукс, живший как признанный ученый и член ЦК СЕПГ в Дрездене с тех пор, как в 1959 году был выпущен из английской тюрьмы, всегда уклонялся от ответов на вопросы о своей разведывательной деятельности. Я никак не мог смириться с мыслью, что человек такого необычного жизненного пути унесет с собой свой опыт. За несколько лет до его смерти я смог наконец побудить его нарушить молчание, и тоже только после того, как Эрих Хонеккер лично обратился к нему и попросил его побеседовать со мной.
Своей манерой говорить, всем своим поведением Клаус Фукс никак не соответствовал расхожим представлениям о преуспевшем шпионе. Высокий лоб, внимательные глаза в очках без оправы смотрят вдумчиво после каждого вопроса, усиливая впечатление, что перед вами типичный ученый. А такое впечатление он производит с первого взгляда. Его глаза начинают блестеть, когда Фукс говорит об основах теоретической физики, о квантовой теории или о математических расчетах колебаний при взрыве плутониевой бомбы. Он был исследователем до мозга костей.
Фукс был из того же материала, что и Рихард Зорге, Харро Шульце-Бойзен, Ким Филби и многие другие, которые свои знания и способности поставили на службу Советскому Союзу, так как в этом они видели возможность победить “третий рейх” и оказать решающую помощь СССР и его союзникам во второй мировой войне. На нашем профессиональном языке люди, которые работали на службу разведки из идеализма и глубоких политических убеждений, именовались не шпионами, а разведчиками. Фукс был для меня разведчиком, хотя он и не имел никакой специальной подготовки, почти никакого опыта и, конечно, необходимой закалки для этой трудной работы.
Будучи студентом, Фукс примкнул к коммунистическому движению и по решению партии после 1933 года выехал за границу. В Эдинбурге под руководством знаменитого Макса Борна он получил ученую степень, однако после начала войны их пути разошлись. Борн как убежденный пацифист решительно отказался от сотрудничества в важном в военном отношении секретном проекте создания атомной бомбы, которую он пророчески считал “дьявольским изобретением”.