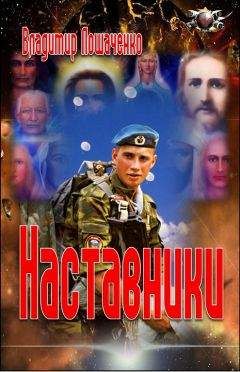Здесь в концу нашего труда да позволит нам читатель указать ему на стихотворение Лермонтова, писанное им в самом начале его поэтической деятельности, вполне могущее служить иллюстрацией только что сказанного:
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете!..
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы.
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне.
Так пасмурна жизнь наша, так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша,
И уж ничто души не веселит.
Пятнадцатилетний юноша высказал ясно и верно положение выходящих из ряда индивидуальностей среди современного мира.
Не станем подвергать критическому анализу всякие соображения и рассказы о причинах, побудивших Мартынова вызвать Лермонтова на поединок. Мы попытались проследить истину. Теперь скажу только еще по поводу одного навета, который вышел главным образом от людей, расположенных к Мартынову.
Говорили, что Мартынов заступился за честь сестры, будто бы выставленной поэтом в княжне Мэри, так же, как в Грушницком был выставлен сам Мартынов. Эта нелепая догадка отпадает сама собой после всего, что было сказано нами относительно «Героя нашего времени».
Другие утверждали, что вступился Мартынов за честь своей сестры вследствие непозволительной проделки со стороны Лермонтова. Она будто состояла в том, что отец Мартынова дал Лермонтову, уезжавшему на Кавказ, пакет для своего сына. Пакет был запечатан, и в нем находилось письмо сестры Мартынова, которое она посылала брату. Влюбленный в Мартынову (?) Лермонтов ужасно желал узнать, какого о нем мнения красавица. Он не удержался и удовлетворил своему любопытству. Про него говорили дурно. Отдать вскрытое письмо по назначению стало неудобным, и Лермонтов решил сказать Мартынову, что он в дороге потерял пакет. Но в пакете были деньги. Задержать их Лермонтов, конечно, не мог и передал их Мартынову сполна. Когда Мартынов написал об утрате домой, его известили, что Лермонтову не было сказано, что в пакете 500 рублей. Как же мог он это узнать? Очевидно, он вскрыл письмо. Мартынов вознегодовал на товарища, а Лермонтов, чувствуя себя виновным, всячески придирался к Мартынову и, наконец, довел до дуэли. Вся несообразность и деланность ясна. Если даже допустить (?), что любопытство могло побудить Михаила Юрьевича распечатать чужое письмо, то немыслимо, чтобы он — умный человек — мог подумать, что дело останется неразъясненным? Не проще ли было уж и не отдавать денег, пока не выяснилось бы, что таковые были в пакете и тогда возвратить их. Не говорим уж о том, что весь рассказ о письме противоречит прямому и честному характеру поэта. Его и недруги не представляли человеком нечестным, а только ядовитым и задирой.
Даже за гробом преследовала Михаила Юрьевича клевета и злоба. Цензура не пропускала слишком сочувственных о нем отзывов, не терпела выражений высокого уважения к поэту; она вычеркивала слова: славный, знаменитый и проч. У А.А. Краевского видели мы прбцензурированный лист стихотворений Лермонтова из «Отечественных записок» N 1, 1848 г. Помещая стихотворения, редактор предпосылает им заметку свою: «Не входя в рассмотрение литературного достоинства стихов 15-летнего поэта, мы желаем сохранить их на страницах нашего журнала, в котором он почти начал свое кратковременное, но славное поприще».
Цензура зачеркнула слово славное. Краевский рассказывал и о других подобных случаях. Не то же ли происходило по отношению к памяти А.С. Пушкина?
Вообще, очевидно старались по возможности сдержать симпатию к молодому поэту, а память его зачернить и распространить в обществе, как и прежде, о нем дурное мнение. Был пущен слух, как бы в подтверждение того, что в самых высших сферах Лермонтова очень не любили, и что по получении известия о смерти Лермонтова, государь сказал: «Собаке — собачья смерть!» Это положительно неправда! Известие пришло в присутствии дежурного флигель-адъютанта А.И. Философова, родственника Михаила Юрьевича, и Государь решительно ничего подобного не говорил. И государь, и великий князь Михаил Павлович, как мы видели выше, являлись защитниками Михаила Юрьевича от слишком ревностных преследователей его личности и таланта. Надо предполагать, что распространение таких вестей было на руку Бенкендорфу
Лучшие люди, с сердцем и умом, относились к памяти поэта с уважением и негодуя выражались о виновниках его гибели.
На сообщение полковника Траскина об обстоятельствах дуэли и смерти Лермонтова П.X. Граббе отвечал ему: «...Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом — десять пошляков преследуют его до смерти. Что касается до его убийцы, пусть на место всякой кары он продолжает носить свой шутовской костюм».
А.П. Ермолов по поводу ранней смерти Лермонтова говорил: «Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!» И все это сребровласый герой Кавказа говорил, по своему слегка притопывая ногой.
Князь П.А. Вяземский, известный поэт наш, замечает по поводу известия о смерти Михаила Юрьевича: «...В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи Филиппа. Вот второй раз, что не дают промаха». По случаю дуэли Лермонтова князь А.Н. Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между князем Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили, и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом деле.
В январе 1842 года состоялось по делу о смертельной дуэли Лермонтова высочайшее повеление (от 3 января): «Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца, и предать церковному покаянию. Титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжелой раны».
В январе же последовало Высочайшее соизволение на перевоз тела поэта из Пятигорска в пензенское имение Арсеньевой село Тарханы для погребения на фамильном кладбище.