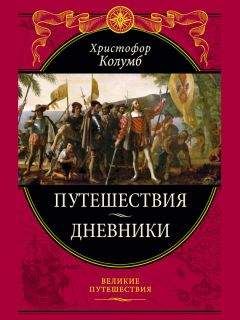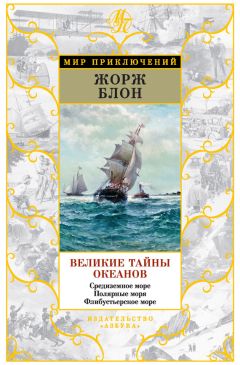4) Сей поступок адмирала скоро сделался известным во всей Италии. Одно рагузинское судно, возвращаясь из Смирны, встретилось с австрийским. Шкипер последнего, уведомив рагузинца, что Рагуза осаждена нашими войсками, советовал ему отдаться добровольно неприятелям русским, нежели идти к друзьям французам. Рагузинец пришел прямо в Кастель-Ново, спустил флаг, отдался в плен и не ошибся в своем расчете. Адмирал и его судно, стоившее около 300 000 руб. освободил, приказал отыскать и доставить к нему его семейство, удалившееся на острова.
5) При взятии острова Курцало корвет «Днепр» под командой лейтенанта Бальзама был послан в Спалатро для отвоза раненых французов с таким от адмирала повелением, чтобы под разными предлогами не сниматься с якоря и, ежели будет возможность, взять приверженного к России славянина. По прибытии в Спалатро, командир корвета, сдав пленных, просил позволения налиться водой и купить для экипажа свежих запасов, которыми тот же вечер и был снабжен, а воду обещались доставить на другой день. На утро, у острова Брацо, показался наш флот. Мармонт, чрез начальника своего штаба призвав к себе г. Бальзама, спросил: какие это суда и какое их намерение. На ответ, что то был российский флот, Мармонт с сердцем объявил ему, что сделает его военнопленным, потому что Сенявин нападает в том самом месте, где находится переговорное команды его судно. Однако великодушный французский маршал обещал отпустить лейтенант, если Сенявин возвратит ему взятые им в Брацо пушки и французов, и приказывал Бальзаму написать о том к адмиралу. Бальзам ответил, что не может делать предложений сего рода своему главнокомандующему; Мармонт, недовольный таким ответом лейтенанта, сказал ему, чтобы он послал повеление старшему по нем офицеру ввести корвет в гавань. Бальзам вместо сего уведомил мичмана Кованьку, что он задержан и приказывал ему во что бы то ни стало удалиться скорее от порта. Кованько под разными предлогами уверял капитана над Спалатрийским портом, что не может войти в гавань; когда же подул легкий ветерок, при котором если не мог выйти, то мог с выгодой напасть на французскую гребную флотилию, послал к Мармонту письмо следующего содержания: «Если вы, г. генерал, неуважением к переговорному флагу нарушаете народные права, и если начальник мой не будет освобожден, то я задержу суда ваши и могу сжечь стоящие в порте. Только полчаса будут ожидать вашего ответа» и проч.
Мармонт, уверясь, что мичман получил противное приказанию его наставление, сердился, угрожал, но Бальзам спокойно отвечал ему, что французский генерал не может давать русскому офицеру никаких приказаний; что он сделал то, что каждый приверженный к своему государю офицер обязан был в таком случае сделать. Сим ответом, казалось, Мармонт смягчился и пригласил лейтенанта к своему столу, где спрашивали его о числе и ранге наших судов и удивлялись, что в такое позднее время Сенявин не страшился бурь Адриатического моря. Наконец Мармонт, взяв с него честное слово приехать на другой день к нему на завтрак, отпустил. Бальзам, видя, с каким генералом имеет дело, почел и себя вправе нарушить данное обещание и по прибытии на корвет сделал все приуготовления к снятию с якоря, долженствовавшему последовать по захождении луны около полуночи; но сильный противный ветер в том ему воспрепятствовал и он был принужден по второму позыву Мармонта ехать опять на берег, сдав, однако, до того на законном основании корвет мичману Кованьке с предписанием при первом благополучном ветре сняться с якоря и стараться соединиться со флотом. По окончании завтрака Бальзам, представляя Мармонту, что он удерживает его против всех воинских правил, просил позволения удалиться с корветом. Наконец, после многих препятствий и угроз и, как думать должно, по совету других генералов, Мармонт отпустил Бальзама и корвет соединился со флотом на высоте Курцало.
6) Сколько переменился характер французов, славящихся просвещением и известных до революции особенной вежливостью, доказывают некоторым образом поступки их с пленными. Солдаты наши, возвратившиеся из Далмации, рассказывали следующее: их содержали как преступников в тюрьме, морили голодом, отнимали то, что жители из человеколюбия им приносили, и такими средствами принуждали вступать в службу. С офицерами не лучше поступали. Мичман Галич и гардемарин Козырской, несмотря на нежный возраст последнего, лишенные обуви, а частью и одежды, шли чрез всю Далмацию босиком и терпели неслыханные от солдат наглости. Дабы уверить жителей, что войска наши разбиты и Катаро взята, тех же самых 60 человек пленных выводили ночью тайно из тюрьмы, а днем, при барабаном бое, водили для показу чрез город. Я умолчу о других поступках, ибо и сии ничем неизвинительны, тем более, что нисколько они не сходствовали со снисхождением к их пленным, и можно со всей достоверностью сказать, что у нынешних французов право военнопленных не существует.
Нечто из перепискиИз переписки адмирала с французскими генералами намерен я сообщить читателям два только письма, ясно обнаруживающие поступки и дух приверженцев Наполеона. Лористон, разбитый и осажденный в Рагузе, жаловался Сенявину на жестокость наших солдат и предлагал ему, чтобы он приказал черногорцам и приморцам удалиться в свои границы. Вот ответ на сие нелепое предложение.
Г. генерал Лористон!
В письме вашем от 27 мая жалуетесь вы на жестокость моих солдат, следственно русских. Вы так ошибаетесь, г. генерал, что я почитаю совершенно излишним опровергать сказанное вами, а сделаю одно только замечание, как содержатся у нас и у вас пленные. Ваши офицеры и солдаты могут засвидетельствовать, с каким человеколюбием обходимся мы с ними; напротив того у наших, которые иногда по несчастью делаются вашими пленными, отнимают платье, даже сапоги: несколько из моих солдат, освобожденных при вторичном взятии Курцало, могут убедить вас в сей истине; я сам был тому очевидцем.
О черногорцах и приморцах считаю нужным дать вам некоторое понятие. Сии воинственные народы очень мало еще просвещены; однако же никогда не нападают на дружественные и нейтральные земли, особенно бессильные. Но когда увидели они, что неприятель приближается к их границам с намерением внесть огнь и меч в их доселе мирные хижины, то их справедливое негодование, их ожесточение простерлось до такой степени, что ни моя власть, ни внушения самого митрополита не в состоянии были удержать их от азиатского обычая: не просить и не давать пощады, резать головы взятым ими пленникам. По их воинским правилам оставляют они жизнь только тем, кои, не вступая в бой, отдаются добровольно в плен, что многие из ваших солдат, взятых ими, могут засвидетельствовать. Впрочем и рагузцы, служащие под вашими знаменами, поступают точно так же, как и черногорцы.