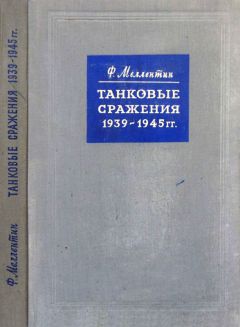Мы идем через длинные, темные, гулкие коридоры. Мои подбитые гвоздями ботинки громыхают на каменном кафеле, и я размахиваю руками как можно более беспечно. Охранник идет с высокомерно служебным лицом и на подчеркнуто определенном расстоянии. Я тихо надеюсь, что попаду в одну из передних одиночных камер, они теплее, и лежат выше и в коридоре, где есть камеры других заключенных, так что можно, по крайней мере, слышать шумы и жизнь, и из разнообразных звуков можно сделать выводы о времени. Другие помещения для одиночного ареста находятся в подвале, сзади внизу. Их отапливают только снаружи, а теперь декабрь. Надзиратель идет мимо камер, за которые цепляются мои тихие желания, и я сразу стыжусь моего неравно распределенного волнения. Мы спускаемся по лестнице, надзиратель закрывает двери, снимает замки. Он идет, раздумывая, между отдельными одиночными камерами и открывает, наконец, заднюю, самую темную, самую холодную.
Помещение маленькое и белое, известковые стены и серые железные прутья заставляют дрожать от холода. Окно закрыто толстым, белесым, ребристо изборожденным, затянутым проволокой стеклом, сквозь которое прутья решетки, кажется, мерцают только неотчетливо. В полумраке стоит прямо и угрожающе конструкция из металлических стержней, которая окружает клетку. Клетку, так как внутри камеры, на самой темной стене — совсем не на той, которая обогревается снаружи, из коридора, — и как можно дальше от окна и двери, находится отгороженное второе помещение, окруженное решеткой, по длине точно такое же, как нары, которые, встроенные в пол, являются тут единственным предметом мебели, и ширина его равна длине. Дверь клетки открывается с треском. Я вхожу внутрь. Надзиратель отбирает у меня подтяжки и шарф и захлопывает решетку. Он звенящими ключами закрывает ее один раз наверху, и один раз внизу. Он закрывает железную задвижку и еще вешает замок. Он обходит вокруг клетки и обстукивает каждый отдельный прут ключом, испытывая его на прочность. Он идет к двери камеры и назад, ощупывает стекло окна и проверяет термометр на досягаемой для меня стене. Он выходит и закрывает дверь камеры, один, два раза, наверху, внизу, задвигает задвижку и гремит замком. Я слышу, как его шаги тяжело стучат в коридоре. Глухо закрывается дверь коридора. Еще раз звенят ключи. Потом наступает тишина.
Я сижу на низких нарах, долго, долго, не шевелясь. Я не могу думать, здесь слишком холодно, чтобы думать, слишком тихо, чтобы думать. Нет ничего живого в помещении. И я, сам я живой? Я смотрю на свою руку, белую и костлявую, которая лежит на коленях. Это рука мертвеца. Черные полосы на синеватых ногтях! Мне кажется, я пахну разложением.
Я — центр помещения. Если я не смогу излучать свое существо вплоть до самых дальних углов даже такого маленького помещения, то меня раздавят. Я должен прожить здесь семь дней. Семь дней и семь ночей. За это время океанский пароход из Германии дойдет до Америки. Я сижу на нарах и пытаюсь представить себе путешествие на пароходе. Я связываю с этим мир благополучия, темпа, широкого обзора и свободы. Свобода! Я встаю и прислоняюсь к стержням решетки. Они холодны как лед, и я делаю шаг вперед. Я должен придерживать брюки, иначе они спадут. Я хожу по кругу. Я представляю себя на прогулочной палубе. Я превосходно одет, я слышу музыку и журчание подвижных волн и говорю с элегантными женщинами и умными мужчинами. Я мечтаю. Но каждая мечта длиной только два шага. Каждая мысль длиной только два шага. Потом она прерывается, и новая, очень разнообразная, появляется. Я живу в безумном темпе. Я взвинчиваю сам себя. При этом я не забываю ни на мгновение, что я заключенный, что я сижу под строгим арестом, что я хожу по кругу между прутьями клетки и придерживаю брюки. Если бы было только хоть чуть-чуть теплее! Я протягиваю руку через решетку и пытаюсь дотронуться до обогретой стены. Напрасно, и я даже в кончиках пальцев не ощущаю никакого дуновения тепла. Я снова сажусь на нары. Как долго я теперь уже сижу под арестом? Наверное, скоро полдень? Я ощущаю голод. В девять часов меня выводят. Я тру кулаками глаза и останавливаю дыхание. Я хочу знать, насколько длинна одна минута. Я считаю пульс. Долго, бесконечно долго длится одна минута. Когда же это было, что я тоже когда-то сидел и измерял дыхание одной минуты? Ну да, я ведь уже сидел однажды в тесном, глухом помещении и боялся времени? Я сидел в бункере, и снаружи сыпался огонь. Один снаряд ударил в землю — слишком далеко. Второй прилетел и угрожающе взорвался. Слишком близко. Третий, третий снаряд должен был попасть. Я сидел и внимательно слушал свой пульс. Третий снаряд не прилетел! Одна минута бесконечно длинная. Я поднимаю взгляд и считаю прутья клетки. Их пятьдесят восемь. Я поднимаюсь и исследую ногами толстые доски. Их шестнадцать. Я делаю семь шагов и тогда упираюсь в решетку. Я радуюсь семерке. Я складываю 58 + 16 + 7 = 81, сумма цифр последнего числа — девять. На счастье или на беду? Нет ли связи между этим числом и мной? Я родился в девятом месяце года, и сумма цифр числа моей даты освобождения — тоже девять.
Я улыбаюсь и стыжусь. Это глупо. Я глуп. Я утешаюсь тем, что большинство людей глупы, если только они одни, действительно одни. Хотел бы я видеть старшего секретаря, того самого, из-за которого я здесь сижу, если бы он был в моем положении. Ах, какое же у него упрямое, красное, квадратное лицо. Голова сидит прямо на плечах. Усы, вечно топорщащиеся, на вздутой верхней губе, излучают несамостоятельно-преданное негодование. Как я ненавижу эту рожу! Ну да, «физическое нападение»! Я радуюсь. Я не сожалею ни на мгновение. Как растерянно глядел он на меня! Он хватал ртом воздух и визжал: — Я прикажу посадить вас под арест! Он приказал посадить меня под арест. С противной придирчивостью, с вечно лживой приветливостью пресмыкался он вокруг меня, здесь подпуская шпильку, там подчеркивая снисхождение. Укутанный в жестокость, а без оболочки — трусливый. Теперь он торжествует, думаю я, теперь он с помощью чувства власти латает свою испорченную уверенность в себе. Нет, я не ненавижу его, думаю я. Если бы я ненавидел его, я бы его признавал. Я смеюсь. Я действительно смеюсь — и звук разносится в камере. Он ломается в углах, и хохочет между решетками. Удивленно я прислушиваюсь. Я смеюсь снова, фальшиво и судорожно. Камера отвечает. Это насмешка. Я молчу, и меня пробирает холод.
Еще не полдень? Не слышно ни одного звука, кроме моего дыхания. Пар из рта стоит в воздухе. Я накачиваю легкие и выдуваю в воздух слабое облако. Я дышу в руки. Я застегиваю брюки, насколько получается, крепко, и делаю приседания. Раз — два — три — четыре. Точно по инструкции. Я делаю пятьдесят приседаний. Потом мои ноги дрожат. Насколько высока камера, думаю я, и пытаюсь измерить ее моим ростом. Я ползу по решетке вверх. Я быстро снова прыгаю вниз; потому что внезапно я почувствовал себя как обезьяна в зоопарке. С широко расставленными ногами, висящая с хватающими руками на прутьях решетки. Это унизительно. Человек, который видит обезьяну, ощущает жгучий стыд. Правда ли, что мы происходим от обезьяны? Я думаю, человек, одинокий человек, покинутый и потерянный в тесном пространстве, снова станет обезьяной. Ну как же, я ведь недавно читал книгу в камере. «Тарзан, обезьяна», так она называлась, кажется. Мне было противно. Это было невыразимо глупо и пошло. Человек, белокурый человек, рожденный людьми и пришедший от людей, попадает к обезьянам и скоро сам становится одной из них. Становится сознательно и хвастается этим. Можно ли от людей скрыться среди обезьян? Горе нам, если это возможно. Ну да, я же теперь живу среди преступников. Я живу с ними, говорю с ними, говорю на их языке, у меня их заботы. Я повинуюсь надзирателю, хотя я презираю его. Я начинаю размышлять. Еще не полдень?