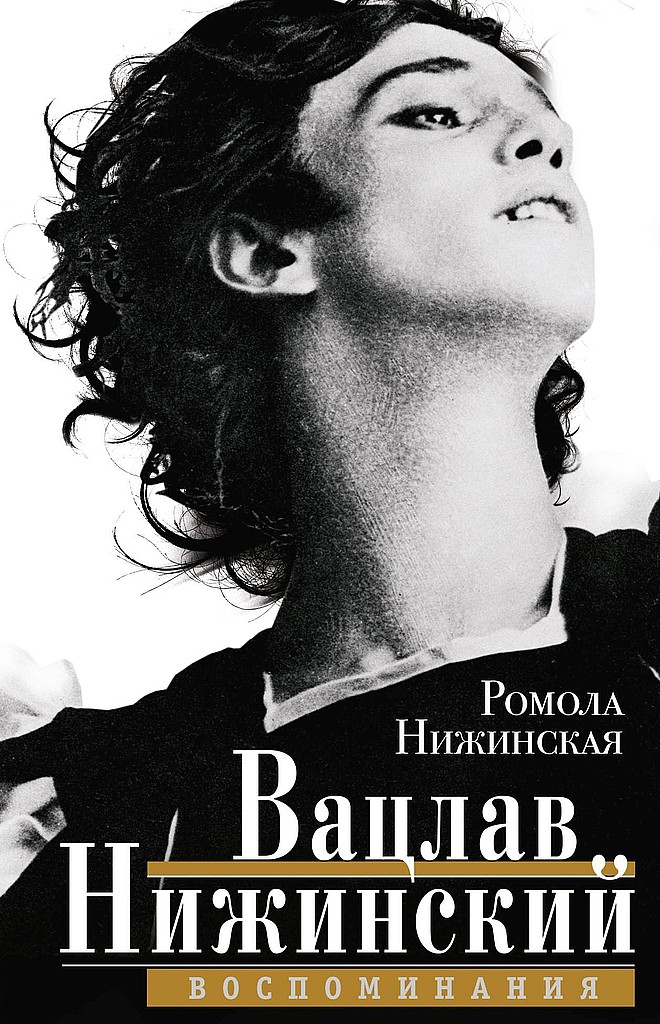любовь должна прийти к нему через женщину.
Но теперь, когда Вацлав полностью понимал себя не только как художника, но и как человека и мужчину, почему же, почему он хотел отказаться от всего, что могут предложить любовь, жизнь и искусство, и вернуться к земле? Теперь я стала понимать, что Сергей Павлович готов полностью уничтожить Вацлава, если не сможет полностью владеть им и как артистом, и как человеком и мужчиной.
Мы стали решать, как быть с Кирой, если Вацлав поедет в Южную Америку. О том, чтобы отправить ее к моей свекрови в Россию в разгар революции, конечно же не могло быть и речи. Раньше мы решили отправить ее с надежной няней в Швейцарию, в известный детский санаторий, однако теперь по наущению Костровского и X. Вацлав сказал: «Мать должна заботиться в первую очередь о своем ребенке». Но я решительно поставила на своем: «Ребенок, которому нужна моя забота, — это ты, Вацлав, и я еду с тобой».
Я старалась как можно больше развлекать Вацлава, и мы часто проводили весь день с герцогиней X., которая так откровенно показывала свою безумную любовь к Вацлаву, что он отказывался выезжать с ней один, как я ему предлагала. Однажды мы поехали на автомобиле в Эскуриал. Это была мрачная поездка по голой пустыне, но на последнем повороте дороги мы невольно вскрикнули от волнения, когда вдруг из ничего возникло, словно мираж, огромное суровое здание, господствующее над всем горизонтом. Его строгие, внушительные очертания подавляли зрителя. Вацлав, полный восхищения, сказал: «Испания. Религиозный фанатизм, выраженный в граните».
Когда он стоял там такой маленький, такой доверчивый под ослепительным солнцем перед тем, как войти в мрачный безжалостный дом инквизиции, я спросила себя: отчего он не видит, что «учителя» стараются с помощью религиозного фанатизма завладеть его душой и уничтожить его?
Герцогиня X., как родственница короля, могла показать нам все. После комнат Карла V склеп казался почти веселым.
За ленчем на террасе Вацлав, похоже, снова стал озорным. Он сказал мне: «Пожалуйста, фамка, не оставляй меня на столько времени одного с ней». Он был слишком скромным, чтобы выдать герцогиню, но слишком честным, чтобы не посоветовать мне быть на страже.
Король со своими придворными присутствовал почти на каждом спектакле и горячо выражал свое восхищение. Он часто приходил на репетиции, и герцогиня X. сказала нам, что, оставаясь один, он пытается подражать прыжкам Вацлава. Однажды вечером Альфонсо пришел так поздно, что мы не могли заставить публику ждать, и сказал своему адьютанту: «Пожалуйста, попросите Нижинского извинить нас за задержку и скажите ему, что я только что родил новое правительство».
Наша интимная жизнь была идеальной. Иногда у меня возникало в высшей мере странное ощущение — мне казалось, я чувствую то, что могли бы чувствовать женщины из мифов, когда бог приходил любить их. Это было невыразимое и радостное ощущение, что Вацлав больше чем человек. Тот экстаз, который он мог вызвать в любви так же, как и в искусстве, был очистительным, и все же в его душе была какая-то неуловимая частица, которой никогда нельзя было коснуться.
Теперь Вацлав стал задавать себе вопрос, не должны ли супруги жить вместе лишь в том случае, если в результате этого рождаются дети. Прежде он принимал во внимание мое слабое здоровье и тяжесть родительских обязанностей, но теперь стал считать, что верный путь либо аскетизм, либо по ребенку каждый год. Я сразу поняла, что это, должно быть, придумал Костровский, чтобы убрать меня с пути. И однажды ночью, когда они обсуждали эту тему, я открыто объявила войну.
Было три часа утра. Я слушала их уже много часов и видела, как хитро они пытаются разрушить наше счастье. Наконец, чуть не плача, я крикнула: «Почему вы не оставите моего мужа в покое? Вы не смеете говорить о его искусстве, потому что знаете, что в этом не можете влиять на него. Вы не друзья его, а враги. Если вы хотите создать счастье, сначала сделайте это в своих домах. Ваша жена, Костровский, несчастна, у ваших детей нет ботинок потому, что вы раздаете свои деньги чужим людям; а вы, X., если хотите получить повышение, то почему бы не попросить об этом прямо? Вацлав Фомич помог бы вам. Я запрещаю вам обоим вмешиваться в нашу супружескую жизнь. Уйдите от нас, это место принадлежит Вацлаву и мне».
Вацлав был ошеломлен: он еще никогда не видел меня такую и в первое мгновение растерялся; но потом он сказал: «Пожалуйста, не надо, фамка; они мои друзья, не лишай никого нашего гостеприимства».
Костровский и X. сидели с наглым, вызывающим выражением на лице, ожидая, что будет дальше; но я повернулась и сказала: «Вацлав, ты должен выбрать: или дьявольское влияние этих людей, или я. Если через полчаса эти люди еще будут здесь, я уйду от тебя».
Я стала ждать в соседней комнате; Вацлав пришел туда и пытался убедить меня, что эти двое оба имеют честные намерения, но не поколебал мою решимость, и, поскольку они все еще оставались там, когда закончился получасовой срок, я вышла из дома в ночь.
Наутро Вацлав нашел меня в Прадо, умолял вернуться и сказал: «Будет так, как ты желаешь». С этого дня Костровский и X. больше никогда не приходили в наш дом, но в театре они по-прежнему находили возможности подойти к Вацлаву.
Теперь мы переехали в Барселону, где Русский балет должен был дать первый спектакль, и жили в одной гостинице с Сергеем Павловичем. Герцогиня X. последовала за нами, и я была, пожалуй, рада этому, потому что чувствовала в ней свою союзницу. Дробецкий, который всегда был нашим надежным другом, сообщил мне, что мои подозрения, что Дягилев действовал через Костровского и X., имели под собой основание и что теперь назревает какая-то неприятность. Поэтому я решила, что настало время спросить, будут ли Вацлаву выплачивать его заработок, или эти люди ждут, что он станет, как раньше, танцевать бесплатно.
Однажды утром мы совершили прекрасную прогулку на автомобиле в Монсеррат вместе с Костровским и X. Гора Монсеррат, высотой четыре тысячи футов, очень похожа на архитектурное сооружение, и на ней есть очень причудливые гранитные скалы, которые имеют форму странных человеческих фигур. Она внезапно поднимается над плоскогорьем, которое густо покрыто виноградниками и роскошной южной растительностью, и почти недоступна: на вершину ведет лишь одна узкая тропа, по обеим сторонам которой находятся отвесные скалы и бездонные пропасти. Есть предположение, что эта гора — «Монсальват» Парсифаля. Чем