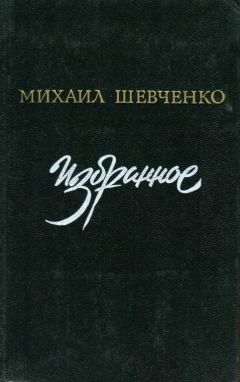И вот так и не собрался. А представляю, что бы это была за встреча, за беседа!..
Никогда не забуду три дня и три ночи с ним в Академгородке под Новосибирском. Там проходило выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР. Володя участвовал в этом заседании. Он радовался хорошему докладу своего друга Даниила Гранина. С ним Володя пошел и к ученым. Пошел и я на эту встречу. Даниил Александрович был, как всегда, сдержан, нетороплив в каждой реплике. Умнейшими, едва заметно улыбающимися в прищуре глазами оглядывал он присутствующих. Владимир пылал, заставлял людей науки о многом задуматься, ставил их в тупик неожиданными вопросами и рассуждениями.
Где-то на второй или третий день, вернее, вечер, мы встретились с ним после заседаний и не расставались трое суток. То сидели у него в номере, то выходили на улицу и бродили вокруг гостиницы по лесу. Ночью это было особенно здорово. И говорили, говорили, спорили, объясняли себя друг другу.
— Почти все, что опубликовано у меня, — дерьмо! — восклицал Владимир исступленно. — Вот есть у меня в столе страниц триста настоящей прозы!..
— Ну, зачем же так? — возражал я. — Ну как ты можешь зачеркивать «Суд», «Тройку, семерку, туз» Или «Три мешка сорной пшеницы»… или «Кончину»!..
— Ну, может быть, «Кончина» еще туда-сюда…
Владимир не рисовался. Я знаю, как он быстро уходил от своей только что рожденной вещи, как загорался в работе над новой, как дороги были ему еще не опубликованные: в них он уже шел, как сам считал, дальше.
Когда я остановил его внимание на «Кончине», он вдруг умолк, задумался, что-то припомнив, и сказал горячо:
— А знаешь, ее в набор подписал Поповкин умирающий. Я так благодарен ему. Он же подписал и «Мастера и Маргариту». Понимаешь? — глаза его сверкнули: дескать, какие две вещи заслал, уходя!.. — Да, «Кончина», конечно, ничего, но… все лучшее в столе пока!..
Прищурил глаза, и как бы желая продлить ряд того, лучшего, идущего за «Кончиной», того, что еще жжет душу, что нетерпеливо ожидает благословенного часа явления миру, Владимир снова помолчал, а потом (ах, раз уж зашел такой разговор — так и быть!) сказал:
— Есть у меня несколько рассказов. Каждый — о страшных событиях, пережитых нами… Год великого перелома… Помнишь в «Кончине» хлебороба с переломленным хребтом?.. Так вот один рассказ — о 1929-м, о коллективизации. Другой — о голоде 1933-го. Третий — о 1937-м, четвертый — о 1942-м… И есть еще одна вещица! Я в ней показываю верхи!.. Вот это мое настоящее! В нем, родненький, предстает наше время! Обнаженно предстает!..
И тут он заговорил о Твардовском.
— Будь он жив, он бы эти вещи напечатал!.. Это точно. Знаешь, какой он был? Особенно последние годы…
Владимир рассказал о таком эпизоде. Он уговорил Твардовского навестить Жореса Медведева, который был в ту пору в психбольнице. Твардовский принимал участие в облегчении судьбы известного инакомыслящего и согласился пойти. О визите узнали. А было это накануне шестидесятилетия великого нашего поэта и редактора. Дней через пять Твардовского встречает один высокопоставленный чиновник и говорит: «Что ж это вы, Александр Трифонович? Мы вас собирались к Герою представить, а вы… На кой вам этот Медведев?..»
— И что, ты думаешь, ответил Твардовский? Я не знал, сказал он, что Героя дают за трусость…
В голосе Владимира была гордость за старшего друга.
Вижу его на лесной тропе: в спортивной куртке, в берете, сам спортивного вида — худой, как всегда, на скулах обтянулась загорелая кожа, легок, поджар; по утрам бегал и там, в Академгородке, до начала заседаний.
Вспоминали мы в те дни литинститутовцев. Разошелся он со многими друзьями. Или друзья с ним… Чаще уходил от них он. Не изменял себе. В суждениях о них, как и о себе, был беспощаден: иногда, мне казалось, несправедливо беспощаден. Но это не первый случай в истории литературы. Люди делают одно и то же дело, но идут разными путями, порой доходя до ненависти друг к другу. Видимо, это потому, что каждый — личность, не могут уступить друг другу, подняться над собственной суетой.
Да, друзья по институту разошлись… Я вспомнил, как перед одним из писательских съездов Владимир приехал в правление Союза получить удостоверение делегата. Выходя из комнаты, он столкнулся с однокашником по институту, прошел мимо, не поздоровавшись, даже отвернувшись. А ведь они когда-то были — не разлей вода. Жили в одной комнате на Тверском бульваре, 25, оба — северяне.
Да, это удел многих крупных людей. Это в духе, в характере Тендрякова, — нет, не скандальном, не мелочном, нет, в характере отстаивать свое неистово, вплоть до разрыва.
Наташа рассказывала мне по дороге в Коктебель, как непреклонен был Володя в спорах даже с Твардовским, как тот, будучи порой жестоко обруганным Владимиром, сам приходил к нему на следующий день. Да, Тендряков был во всем Тендряков — неукротимый, горячий, надежный…
Вижу его возле легковой учебной автомашины, в институтском кружке будущих шоферов-любителей. Володя в отцовском старом-престаром облачении (отец у него был комиссаром гражданской войны), в кожаных вытертых галифе и куртке. Все такой же худой и неугомонный. Протирает тряпкой капот, заглядывает куда-то в мотор и говорит:
— Не выйдет писателя, буду шофером вкалывать! Черт с ним!..
Это было, видимо, в минуты глубокой тревоги за будущее. Он знал, что писатель из него выйдет, он уже ночами сидел за рукописями. Когда однажды ему помешал один беспардонный высоко мнящий о себе студент, Володя дал ему «в морду» в прямом смысле этого слова и… через несколько дней получил выговор по партийной линии. Владимира всегда мучил вопрос — каким быть писателем. Пред глазами его, в сердце его — были примером классики, и не меньше. Это единственно достойные ориентиры, и они помогли ему сделать то, что он сделал.
1953 год. Вижу Володю, сбегающего легко и стремительно по лестнице Литературного института. Под мышкой с десяток свежих номеров «Нового мира». В них — его повесть «Падение Ивана Чупрова».
Володя сияет. И как тут его не понять! Он приносил показать публикацию друзьям, в том числе и тем, с которыми он потом порвет. Но пока они радуются вместе с ним, понимают его. Он — победитель.
— Вот, Миша! Сейчас отошлю номер моему Чупрову!.. Чупров не верил, что напечатают!.. А ведь напечатали!..
Голубые-голубые глаза его, глаза, в которых всю жизнь хранилось северное его небо, были счастливы. Он всегда чуял силу свою, способность на большое, рвался к нему.
После «Падения Ивана Чупрова» началось восхождение Владимира Тендрякова к высотам литературы. Восхождение было стремительное. Жажда правды, жажда глубже и скорее постичь бегущий день двигали Владимиром, заставляли неистово работать. И работал он всю жизнь неистово, другого слова не скажешь, а особенно в те годы… Судите сами. Сразу за «чупровской повестью», принесшей ему известность, в 1954 году он публикует повесть «Не ко двору», в 1955-м — «Тугой узел», в 1956-м — «Ухабы», в 1958-м — «Чудотворная», в 1959-м — роман «За бегущим днем», в 1960-м — повесть «Тройка, семерка, туз», в 1961-м — две повести: «Суд» и «Чрезвычайное»…